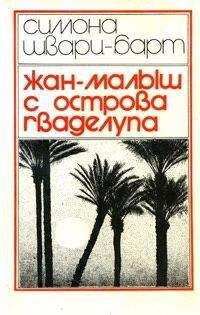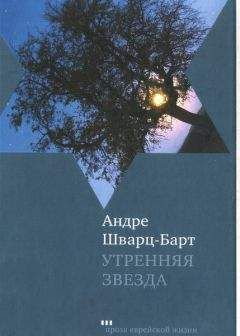— Отец, скажи мне, где я? — промолвил он. Ты у водопада Брадефор, — ответил Жан-Малыш.
— Какого еще водопада? Разве я не на том свете?
— Нет, ты среди живых, — ободряюще сказал ему Жан-Малыш.
Простертый на ложе юноша загадочно усмехнулся, и рассудок его уже снова готов был унестись прочь из хижины, взлететь в небеса, когда он прошептал, обращаясь к самому себе, и на лице у него читалось удивление и горькое разочарование ребенка, у которого отняли любимую игрушку:
— А мне стало так хорошо на этой веревке; под ногами открылся провал, и я тихо-тихо опускался в него, будто на дно реки…
Ананзе снова впал в беспамятство, но его исстрадавшиеся глаза продолжали сверлить старика сквозь сон, безумие и смерть, будто желая рассказать ему о победах в ночной тьме, о неистощимом терпении, которое преодолеет все невзгоды, что ждут впереди. Жан-Малыш продолжал втирать целебный бальзам, врачуя прежде всего руки, которые он время от времени слегка приподнимал, будто надеясь, что вот-вот оживут разорванные связки. Вскоре он сам уснул, и привиделось ему, что он нырнул в озеро под водопадом и над его головой кишмя кишат пиявки. Одна из них, хищно пронзив кожу, впилась ему в левый висок, и он подумал: наверно, здесь у меня дурная кровь, ее-то и сосет водяная тварь. Потом он вздрогнул и проснулся в темной хижине, рядом с Ананзе, все еще ощущая, как невидимая пиявка припала к жиле на виске, стараясь вытянуть из него неведомые соки…
Только на следующий день, обмыв, накормив и напоив Ананзе, Жан-Малыш до конца осознал, как худо его другу. В отдельности каждая черточка лица Ананзе оставалась прежней, но все вместе они застыли в гримасе страдания; он все постигал с опозданием, будто образы и звуки проходили длинный путь, прежде чем проникнуть в мозг. Слова он произносил медленно, нараспев, не очень-то заботясь о связи между услышанным и сказанным им самим. И Жан-Малыш спрашивал себя, кем же считал его юноша, который без всякого удивления взирал на огромного, голого, как ошкуренный ствол, старика, с иссиня-черным пером, сиротливо торчащим из бедра. Вечно Преследуемый даже не поинтересовался его именем и обращался к нему, как к почтенному старцу, называя просто отцом по старому обычаю Лог-Зомби. Иногда его одолевали воспоминания, которые он считал снами, потому что уже не мог точно отличить игру своего ума от чудес этого мира. Он упомянул о Чудовище, которое несколько раз видел издали, рассказал, о чем беседовал с душами усопших, поднимавшимися в полнолуние на землю, чтобы посмотреть на своих потомков, вновь ставших рабами. Но во всем этом он не был уверен, говорил, что слишком долго прожил в полном одиночестве и поэтому не может что бы то ни было утверждать наверняка.
— Одной пары человеческих глаз мало, — улыбнувшись, прошептал он однажды, — нужны по крайней мере две пары, чтобы в чем-нибудь удостовериться, будь то даже простая травинка…
И серьезно добавил:
— Поверь мне, отец, пара глаз — это лишь полчеловека…
Глубоко потрясенный тем, что, несмотря на разделявшие их века и расстояния, они думали одинаково, Жан-Малыш притворился, будто не понял:
— Пара глаз — лишь полчеловека? Что ты хочешь этим сказать?
— Только не смейтесь надо мной, — нерешительно продолжал юноша, — но я до конца не уверен, что все это явь, не колдовство…
— Это я, по-твоему, колдун? — бросил Жан-Малыш с невеселой улыбкой.
— Не смейтесь, прошу вас, не смейтесь: когда начались все эти чудеса, я подумал, что сошел с ума…
— Какие чудеса?
— Ну, когда я начал умирать и возрождаться, потом опять умирать и опять возрождаться, — продолжал Ананзе с едва заметной усмешкой. — В первый раз это произошло в имении Бельфей, где меня просто-напросто повесили, как соленого угря. Я три дня болтался на виселице бездыханный. Я прекрасно знал, что умер, но продолжал слышать, о чем вокруг говорят, чувствовал свежий ветерок. Когда они меня закопали, я прорыл над собой землю, вышел и отправился на другую плантацию. Я не верил в то, что со мной случилось, думал — это просто сон. Не верил и во второй, и в третий раз, считал, что умом тронулся. Но однажды я заявился в имение Сан-Фаше, и, завидев меня, люди в страхе разбежались, крича, что они меня один раз уже вешали, да-да, вздернули по всем правилам не далее как год назад; и тогда я понял, что нахожусь в здравом уме, но просто заколдован, и колдовство это длится до сих пор, даже и сейчас, когда я с вами говорю, — закончил он, робко улыбнувшись.
В последние дни перед кончиной, когда его суденышко должно было взаправду опрокинуться и затонуть в открытом море, Ананзе поражал своим невозмутимым спокойствием, лежа в маленькой вечной хижине у водопада Брадефор — в его последнем пристанище на этой земле.
Как ни старался Жан-Малыш, левая рука юноши не хотела оживать. Она висела плетью, чуть западая за спину, будто собиралась опять мучительно скрючиться под толстым суком мангового дерева. Однако ноги его вновь стали пружинистыми, его снова начал слушаться язык, глаза обретали былую зоркость, но иногда все же подводили его так, что он натыкался на препятствия. Он шутил, смеялся, временами его выходки напоминали прежнего мальчугана на берегу реки. Одежда охранника — черная фетровая шляпа, рубаха навыпуск, широкие штаны, подвязанные бечевкой, — висела на нем как на пугале, в таком виде он и ходил за Жаном-Малышом по пятам, смотрел, как тот ловит в озере раков, усатых бычков и лобанов, откапывает съедобные коренья, срезает грозди бананов, собирает плоды гуаявы и каннелии, так осторожно, будто жемчужины, извлекает из стручка и кладет ему в рот тамариндовые горошины. Он никогда ни о чем не спрашивал, даже черное перышко, торчавшее из бедра Жана-Малыша, и то его не интересовало. Они обходились без слов, им ничего не надо было друг другу объяснять, все и так было ясно, за Ананзе говорили его глаза: огромные глаза больного жеребенка, которые он не сводил со старика, будто тот был для него и отцом и матерью, всем, что у него есть, единственной опорой на этом свете. Ловя на себе этот взгляд, Жан-Малыш не без грусти думал, что он со своим старческим лицом и седыми волосами вытеснил теперь в сознании Ананзе память о самом себе…
Как-то вечером ему приснилось, что его зовут, и он открыл глаза. Вечный Юноша спокойно спал рядом. Чуть позже послышался тот же голос, но теперь он звучал громко и явственно, и, подняв веки, Жан-Малыш ответил: «Я здесь». Он встал, обошел хижину. С поверхности кипящего озера, словно пар, начинал подниматься туман.
Остановившись у самой воды, он твердо решил для себя, что судьба Ананзе важнее всего остального в мире, и громко, чтобы невидимые духи как следует его расслышали, сказал: «Никогда, нет-нет, никогда!» Едва он произнес эти слова, над озером поднялся ветер, в неровном дыхании которого слышался многоголосый ропот. В каждом голосе звучала вкрадчивая насмешка колдунов с Верхнего плато, но наш герой повторил: «Никогда, нет-нет, никогда!» Тряхнув головой, он возвратился в хижину и тихо лег возле друга, полный решимости больше не откликаться на зов. Но заснуть бедняге так и не удалось, он долго рассуждал сам с собой, в нем заговорил голос разума, и на каждое его слово Жан-Малыш отвечал печальным вздохом. Тихо и незаметно растаяла серая ночь, а на заре он поднялся с постели и сказал другу:
— Слушай меня, Ананзе, пришло время нам расстаться.
Впервые, сам того не желая, он назвал его по имени, но Вечный Юноша и не заметил этого; он только повернулся к старику и с горьким удивлением проговорил:
— Что вы сказали, отец?
— Пришло время расстаться, мне пора туда, где тебе нет места.
— А где же мое место, если не подле вас?
— Говорю тебе еще раз, — настойчиво повторил Жан-Малыш, — тебе нечего делать там, куда я иду.
— Как и везде, — сказал Ананзе.
Жан-Малыш долго смотрел на друга, потом широко повел вокруг рукой, как бы прощаясь со всем, что их окружало. Вскоре они обошли озеро и ступили на заросшую тропу лесных негров, ведущую к вершине Мательян. Перекинув через каждое плечо по ружью и подпоясавшись патронташем караульного раба, Жан-Малыш шел спокойной, размеренной поступью старого мула, которого копыта сами несут, потому что знают дорогу до последнего камешка. За ним, едва волоча ноги, плелся Ананзе в свисавших до колен лохмотьях. Он ступал неуверенно и осторожно, боясь потерять равновесие, онемевшие руки не помогали, а мешали ему идти. Жан-Малыш прислушивался к голосу браслета и шел туда, куда он указывал, а Ананзе хрипло и монотонно бубнил что-то себе под нос и время от времени затягивал песню сборщиков сахарного тростника; он исполнял ее по всем правилам, слегка запрокинув голову, заткнув пальцем ухо и устремив вдаль мечтательный взгляд:
О друзья вы мои друзья
Возвращаюсь я к вам друзья
Я исполнил свой долг меж: зеленых холмов
Говорю вам
Привет друзья