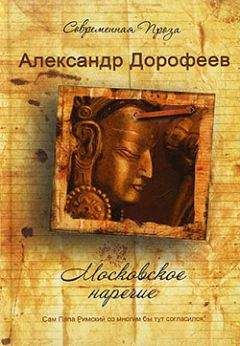Барон немедленно успокоил: «Индра все быстро расчистит! Вложу его в зубы пернатому змею Кукулькану, и начнется светопреставление, или преображение мироздания. Но нам еще нужен и твой Будда. Новой стране требуется старая крепкая вера».
«А не много ли ко мне претензий?» – заартачился было Туз.
«Такое у тебя предназначение! – твердо сказал барон. – Ты теперь отец родной всем цыганам. А вот награда за труды, – вытащил из каменной пасти мешочек, вроде банковского. – Тут и на гражданство, и на хороший дом». И повел рукой, так что полог шатра откинулся, как от порыва ветра, предлагая удалиться.
На площади у подножия лангусты Туз пытался сообразить, что это такое было – не краткий ли обморок от метеозависимости в преддверии урагана? Однако, прощаясь с Раей, задал вопрос, тревоживший все эти годы: «Скажи, кончала ли ты со мной?»
Она поморщилась, как бывало, когда подхватывала с земли что-либо малосъедобное: «Слово слишком плоское. Ни о чем не говорит. Бубенчик, я испытывала дуэнде, как на вершине танца фламенко, когда все миры под ногами – рушатся и воскресают. Иначе бы разве завела от тебя детей? Впрочем, вся моя жизнь – сплошное дуэнде»…
Звучало и впрямь не хуже оргазма. И Туз повинился, будто школьник, не решивший домашнюю задачу: «А вот слово для начала, о котором ты просила, не сложилось»…
«Забудь, – ударила Рая в бубен. – Основа, поверь, уже есть, а окончание само собой явится. Услышишь его в грозе и буре». И направилась к шатру, заметая память о себе длинным подолом.
Когда Туз явился домой с цыганскими посыльными, Груша охнула: «Гитанос по всему городу – не иначе, к концу света!» А увидев, как он снимает Будду со стены, разревелась: «Да что же это такое? Все из дома тащит!» Она была невероятно ранима. Легко испытывала униженность и растоптанность, горько плача от жалости к себе, и тогда становилось видно, насколько хрупок их странный союз.
Удивляясь, почему живет на краю света с этой мало знакомой женщиной, Туз все же постарался ее успокоить: «Он будет символом нового государства, как когда-то у нас серп и молот». И рассказал о планах барона, чем вконец расстроил Грушу: «Заботишься неведомо о ком, а обо мне не думаешь. Это моя страна! Сделай так, чтобы я стала принцессой, и ты не безликим тузом, а королем бубновым!»
«Без революции тут не обойтись», – усмехнулся он.
«А хоть бы! – запальчиво воскликнула Груша. – Знаешь, как в Сальвадоре борется фронт Фарабундо Марти?! Можешь съездить и набраться опыта. А пока разберись хотя бы с окнами – ураган на пороге»…
В городе, будто накануне бомбежки, заклеивали стекла бумажными полосками крест накрест, забивали досками или прикрывали ставнями.
Сизые тучи скрыли верхушки деревьев, и виднелась лишь шейка лангусты. Где-то повыше уже зарождалось, наверное, шестое солнце этого мира, и в воздухе витало тревожно-восторженное ожидание, как перед свиданием с новой возлюбленной, настолько желанным, что и подумать о нем заранее боязно.
Ураган Абандона, войдя в порт Кортес, бушевал в Гондурасском заливе. Карибское море содрогалось от его поступи. Наполненные влагой облака неслись над землей с воем, в котором явственно слышалось эсхатологическое русское слово из шести букв, означавшее конец всему.
«Дец! Дец! Дец!» – неустанно били волны в борт выброшенного на берег собачьего баркаса, так что в ушах звенело.
«Крайне революционное! – думал Туз, порхая в гамаке под порывами ветра. – В нем не только конец, но и начало. Если разучить с местными крестьянами – это будет страшная разрушительная сила, похлеще Индры, все крепостные стены рухнут!»
Все возникает из пустяка. Любая борьба, любое напряжение в пространстве. И тот самый Большой Взрыв, положивший начало вселенной, случился не иначе, как на пустом до дикости месте. По сути дела, от ветреного слова.
Окончание подвижно, как собачий хвост. Так и называется «флексия», то есть сгибание. У слова немало флексий, связывающих его с другими членами предложения. А в жизни и вовсе неисчислимое множество концов-эсхатос, которые указывают на отношения с Творцом. Если ты не слишком окостеневший и жестоковыйный, кончина способна изменить смысл прожитого. Как окончание меняет слово, так смерть может преобразить всю жизнь в царствие небесное. Примером тому прощенный на кресте разбойник.
Несмотря на мешочек, где денег почти не убыло после покупки гражданства, Туз сожалел о талисмане и Будде. Они, видимо, гнали его по свету, а теперь он не понимал, что делать. Со времен первого слова в этом мире настолько замысловатое предложение сложилось, не разобрать по частям. Каждый живший и живущий – его член.
«Какая же у меня-то роль? – размышлял Туз. – Конечно, наречие второстепенно, но все-таки распространяет суть, а иногда бывает важнее главного. Так не напомнить ли миру о своем существовании?»
Сбереженные воздержанием силы просили применения. Став гражданином, он ощутил повышенную ответственность за здешнюю жизнь.
Простые белизцы жили так себе. Ловили рыбу, обрывали бананы, пекли кукурузные лепешки и ходили круглый год, как сам Туз, в одних трусах и босые. Латифундисты кивали на климат. Но образование, как ни крути, от этого не зависит. А белизцы были сильно безграмотны, унижены и обездолены. Умильдес и десдичадос, как тут говорили. Одни отрицательные спирали чего стоили! С этим надо было что-то делать наперекор погоде и землевладельцам.
Известно, что совокупность слов создает образ, который сам по себе – действие. Испанское «обра» вообще означает деяние и творение. В склепе Туз образно рассказал о закидонах Груши насчет революции.
«А я бы, пожалуй, поддержал», – заявил вдруг боцман, и либеральный падре Пахарито нежданно признался, что всегда мечтал установить в Белизе республику советов.
«С ведическим содержанием, близким знанию и совести», – пояснил он.
«Не лучше ли каганат!?» – брякнул Туз. Значение позабыл, но звучало так хорошо, что основать хотелось. «Прости, ихо мио, – покачал головой падре. – На испанском это чудовищно – созвучно поражению, вплоть до поноса».
Так и не сговорились, куда перевернуть Белиз. Хотя в этом деле не так уж важно, в какую сторону повалится опрокинутое. Главное, вместе упереться, чтобы рухнуло. А там видно будет, когда пыль осядет. И Туз составил листовку с призывом к «ревуэльте», к обновлению вообще. На могиле Байрона легко вообразить себя карбонарием, угольщиком, страждущим справедливости, – «кто драться не может за волю свою, чужую отстаивать может!»
«Надену на лицо шапочку с прорезью для глаз, приму имя „команданте Худас“ и возглавлю крестьянское движение в сельве, – думал по дороге с кладбища. – Сколочу из кампесинос две роты по сто человек в каждой. В склепе устроим штаб повстанцев. Падре завербует прихожан, а боцман будет командиром дикой собачьей сотни. Сместим Атрасадо к черту! Порадую принцессу майя, честно разделив страну между ней и своими цыганскими детьми»…
«Ну, наконец-то, взялся за ум!» – оживилась Груша, услыхав о его замыслах, и уже собралась на рынок за револьвером, да Туз остановил: «У нас будет другое оружие – словесное. Сила слова убойней огнестрельной». Он надеялся на бескровную, как при взятии банка «Бананмекс», операцию.
Тем же вечером, проездом с острова Перрос, к ним заглянул взволнованный близким ураганом амо Розен-Лев с приветом от Коли-ножа. За индейкой, приготовленной Грушей под шоколадным соусом с перцем, рассказал между прочим, что Витас ушел в францисканский монастырь у подножия вулкана Попо, где круглосуточными молитвами монахи сдерживают извержение.
«Совсем не понимаю такой консерватизм! – сверкал глазами из своих оврагов. – Глупо останавливать то, что желает расплескаться!»
Узнав о здешних событиях, крайне возбудился: «К чему эти петиции, жалобы, бумажная волокита?! Грамота революции помеха. Без слов к делу! Все здесь переменим! Создадим страну-утопию! Назовем Нуэво Люксембург, а столицу – Троцкий, поскольку Бельмопан явно отдает классовой слепотой». Он распрямился, помолодел и кокетничал с Грушей, нашептав Тузу, что она вылитая Коллонтай.
Такого деятельного человека им в Фелисе как раз не хватало. На другой день Туз отвел его на кладбище. Юным утопичным задором Розен-Лев пришелся по душе боцману и падре, который организовал ему выступление перед сельскими прихожанами.
На окраине города в цирке-шапито, вспархивающем от порывов ветра, учитель произнес краткую, бурную речь о верхах и низах, доходчиво показывая на себе, где у него не может, а где просто не хочет. Потом на арену вышел боцман и увязал его по рукам-ногам велосипедными цепями. Груша исполняла танец пойманной кефали, а Розен-Лев, стремительно освобождаясь от оков, вещал: «Нельзя быть в рабстве у свободы! Она растлевает! Мир ныне невероятно либертосо – избалованный. Мы, террористы, призваны похоронить его и возродить суровый Ветхий завет. Вступайте, камарадос, в мои ряды!»