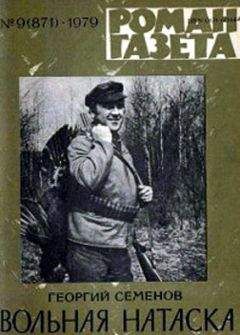Наверное, поэтому такие люди ищут себе подобных и объединяются друг с другом, инстинктивно видя в этом спасение, утверждаясь на примере других в своей собственной правоте. Им охотно помогают женщины, тоже обойденные природой. В этом мирке укороченных чувств каждому живется совсем не плохо! Они даже не подозревают о своей беде. И нельзя их в этом винить, как нельзя винить человека за то, что он не умеет петь тенором. Ну просто не может и не поет!
Тюхтин не случайно избрал этих людей своими друзьями. Теперь с их помощью он легко избавлялся от назойливого Бугоркова, от его слез и писем — он рассказывал о нем своим приятелям, и они вместе смеялись над ним.
Он наконец-то нашел верное средство.
К несчастью или счастью, об этом ничего не знала Верочка Воркуева. Со стороны семья их выглядела вполне благополучно. И именно к ним как к высшим судьям и защитникам пришла Анастасия Сергеевна перед тридцатым Днем Победы жаловаться на мужа, обливаясь слезами и мучаясь ужасно. Именно перед ними оправдывался и тоже искал защиты растерянный и обескураженный Олег Петрович, с глубокой тревогой в душе объясняя им, как все было на самом деле, и уверял их, что он невиновен перед Настенькой.
А случилось вот что: из Омска пришло письмо на имя Олега Петровича от какой-то Шаповаловой Александры Андреевны. Он распечатал конверт и, недоумевая, стал вслух читать при жене, с каждой строкой, с каждым словом понимая, что письмо из далекого прошлого, от дорогой и полузабытой Шурочки, санинструктора роты, которую ранили при нем и при нем же увезли в медсанбат и с которой он спустя год в читинском госпитале встретился за обеденным столом: она, выздоровев, но еще не окрепнув, работала на раздаче, а он только начал ходить после ранения…
Чем дальше читал он это письмо, тем труднее ему становилось читать вслух, питому что Шурочка, нашедшая его после стольких лет, изливалась ему в такой нежной любви, так много восторженных восклицаний было в письме, что Воркуеву становилось не по себе под пристальным взглядом жены. Он глупейшим образом улыбался и, отвлекаясь от письма, говорил своей Насте:
— Елки-палки! Эта ж наша Шурочка! В роте у меня санинструктором была, представляешь?! Такая девчушка хорошенькая… Ребенок совсем! От нее письмо-то. Вот чудеса!
Анастасия Сергеевна, видя страшное смущение мужа, с затаенной тревогой, с коварной какой-то, бледной улыбочкой требовательно приказывала:
— Читай, читай… Шурочка! Что-то ты никогда не рассказывал об этой Шурочке…
— Да ты чего? — спрашивал Воркуев, стараясь изобразить на непослушном лице удивление.
— Читай!
Шаповалова Александра Андреевна, закончив свое письмо не совсем подходящим воспоминанием о том, как она встретила его в Чите и каким родным он стал для нее человеком, назначала ему свидание возле Большого театра в День Победы.
— Ну вот и спасибо! — бешеным сипом выдавила из себя Анастасия Сергеевна. — Дожила и я до светлого праздничка! Вот и живи с ней! А я тебя… Я видеть тебя и знать не хочу! ТЫ и не рассказывал о ней никогда, потому что она была твоей женой… Бросил ее, а теперь вот так тебе и надо! Я очень рада! Поздравляю вас, Олег Петрович, с законным браком! Подлец! Ах, господи! Какой подлец! И я прожила с ним столько лет…
Олег Петрович тоже побледнел и выпалил ей во всю глотку:
— Замолчи, дрянь! Как ты смеешь?! Я ее и пальцем не тронул!
— Да знаю я этих фронтовых подружек! — закричала визгливо и очень неприятно Анастасия Сергеевна, пускаясь в слезы.
А Воркуев не сдержался и ударил ее по щеке, тут же бросившись к ней с испугом просить прощения. Но было поздно.
Анастасия Сергеевна, ахнув от удара, прикрыла лицо руками, а когда к ней кинулся муж, умоляя простить его, сказала ему неожиданно спокойным, чужим голосом, сдавленно-низким баритоном:
— Мне все ясно…
— Милая, прости, я нечаянно… Но ты тоже, — торопливо объяснял ей Воркуев. — Ты тоже! Разве так можно? Это ж мой фронтовой товарищ… Девочка еще совсем… Что ты! Ничего у нас ней не было и не могло быть! Скажешь тоже — жена! Какая жена! Мы ее все любили, и никто не посмел бы тронуть ее… У нас с ней…
— Замолчи. Мне все ясно.
— Да что тебе ясно? Ну вот девятого мая вместе пойдем, ты увидишь… Ты у нее сама спроси… Она тебе все расскажет. Ей-то ты поверишь?
Но Анастасия Сергеевна вопреки всякой логике кипятила в душе ненависть к мужу, впервые в жизни не веря ни единому его слову, в полной опустошенности слыша только собственные слезные восклицания: «Ах, какой подлец! Негодяй! Имел жену и скрывал от меня! Ах, мерзавец!» Никакие доводы мужа не могли поколебать ее, зашедшую в какой-то темный тупичок, из которого как будто не было выхода.
Воркуев, отчаявшись, снова накричал на нее и снова готов был ударить упрямое и тоже вдруг ставшее ненавистным, плачущее, некрасивое, гнусное существо.
Ссора их перешла все границы и, как все ссоры между мужем и женой, была отвратительна. В ход шли слова, которыми каждый хотел как можно больнее ударить друг друга, унизить, оскорбить. И со стороны казалось, что этих людей ничто уже не в силах будет объединить в жизни, примирить. Все было опошлено, испоганено, брошено в грязь под ноги, истоптано и умерщвлено. Ни о каком пути назад не могло идти речи.
Анастасия Сергеевна ни за что не хотела простить мужу предательского, жуткого смущения, какого она еще ни разу не видывала на его лице, и, конечно же, пощечины, а Олег Петрович не мог простить жене тупой бабьей ревности к святая святых его юности — ревность эта казалась ему кощунственной, и он чувствовал себя совершенно правым. В то время как Анастасия Сергеевна низводила мужа до уровня лживого пошляка, бросившего когда-то первую жену. Она так накручивала на свою душу эту идею, так страдала от ненависти к нему, что порой ей начинало казаться, будто у Олега и той женщины есть и ребенок, о котором даже Олег мог ничего не знать. Иначе с чего бы это стала его разыскивать после стольких лет какая-то санинструктор!
Накричавшись, измучившись и устав от взаимных оскорблений, обессилев, супруги наконец умолкли. Анастасия Сергеевна, тщательно вымыв лицо, смотрела с состраданием на себя в зеркало, на распухшие, красные веки, несчастно горящие глаза и, не в силах оставаться с мужем в одной квартире, начала пудриться, причесываться…
А Воркуев тем временем мылся не в ванной, а на кухне и тоже не мог оставаться с женой под одной крышей. Оделся, хлопнул дверью и вышел на улицу.
Был уже поздний час. Холодная, не просохшая после снега, жидкая земля резко пахла глиной. Редкие прохожие шли по бетонным мосткам от автобусной остановки.
Воркуев прошелся до опушки рощицы, слыша чавкающие свои шаги, и вдруг заторопился к дому, решив с блаженной радостью на душе во что бы то ни стало помириться с женой.
Вся их ссора показалась ему сплошным недоразумением, и он, как всегда уверенный, что будет прощен, чуть ли не со смехом отбросив только что жившее в нем раздражение, злость и мстительное желание переночевать на вокзале, взбежал к себе на этаж.
Но Анастасии Сергеевны дома не было. Хорошо еще ключ оказался в кармане.
Воркуев прождал больше часа, вновь ненавидя ее и беспокоясь за нее, сидел не раздеваясь на стуле, прислушиваясь к шагам за окном и на лестнице, выходил на улицу и опять возвращался.
Ах, как он злился на нее в эти мучительные минуты! И как боялся за нее! Никогда еще в жизни ссоры их не затягивались так тревожно надолго. Никогда еще в жизни, казалось, он не ощущал в душе такого тоскливого одиночества. Все, что до сих пор имело в его жизни какую-либо ценность, что недавно волновало его, заботило, заставляло задумываться, радоваться или огорчаться, — все это нестерпимой душевной болью переполнило его, сверля мозг и сердце одной лишь заботой: увидеть скорее Настеньку, помириться с ней и доказать, что никакой «фронтовой жены» у него не было…
И как ни обидно было сознавать, что ему придется доказывать недоказуемое, то есть он будет доказывать, что белое есть белое, человеку ослепленному, он все равно мечтал о той минуте, когда это будет возможным.
Он уже не на шутку стал волноваться за нее. Время приближалось к одиннадцати, а пустынная в это время окраина Москвы, потемки черных пустырей были далеко не лучшим местом для ночных прогулок.
Он долго не мог поверить, что она решилась поехать к дочери, его пугала и эта возможность, но уж лучше бы она поехала к Верочке, думал он, хотя и не знал, как быть ему самому: ждать ли ее дома или ехать следом за ней.
Но он все-таки поехал, чувствуя всю неловкость своего положения, веря и не веря, что она сейчас у дочери, боясь напугать своим поздним появлением, всполошить и Верочку и ее мужа, если Насти не окажется там. Пропала жена! Дикое положение… не заявлять же в милицию, черт побери!