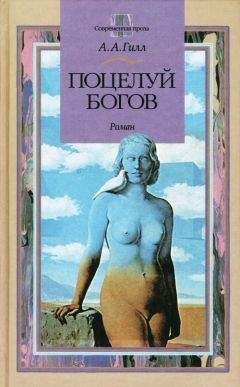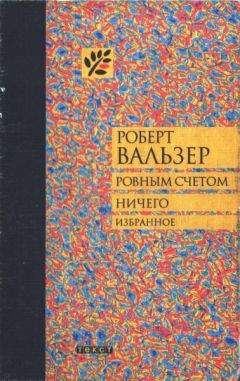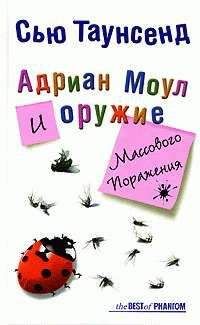Ли терла себя все сильнее, и колени подергивались в стороны.
— Я поняла ее маленький секрет. Эта Антигона запускала побитые пальцы в свое девственное чрево и тешилась чувством вины, потому что воображала злого дядьку. Ха! Да она — просто болтливая шваль из рекламного ролика.
— Ты перепила. — Джон опустился рядом с Ли на колени и отнял ее руку. — Иди в кровать.
Ли не сопротивлялась.
— Я же тебе велела оставаться у стены.
— Ложись.
— Я боюсь. Рок — чушь. Вина и разочарование — вот почему Антигона стала такой стервозой.
— Хорошо, что ты по крайней мере о ней думаешь. — Джон разделся и лег рядом.
— Она здесь? Правда?
— Кто?
— Сам знаешь.
Джон проснулся от того, что услышал, как Ли тошнило. Было шесть часов утра. Она возвратилась в спальню.
— Что мне надеть? Джинсы и майку?
— Да.
Они сидели, молча пили кофе и смотрели на серый рассвет.
— Вот так. — Ли накрыла руку Джона своей ладонью.
— Когда приезжает Хеймд?
— В девять.
— Как ты себя чувствуешь?
Ли пожала плечами.
— Вчера вечером…
— Я напилась.
— Да, немножко… Но говорила правильные вещи.
— Я была пьяная. Ничего не помню. — Она уставилась в чашку. — Знаешь, я отдала бы все, только чтобы этого не делать.
— Тебе не обязательно это делать, если не хочешь. Если в самом деле не хочешь.
— Не хочу.
— Если дело в договоре, я уверен, твои адвокаты сумеют все уладить.
— Нет. Я должна это сделать. Должна через это пройти. Вопрос не об отце, вопрос обо мне. Вспомни боксеров. Казалось бы, заработал все деньги, знаменитее не будет, но опять выходит на ринг. Зачем рисковать, чтобы тебе размозжили мозг, заливать кровью ковер, ставить на карту все? Но боксеры выходят снова. И мне надо на ринг. Хочу рискнуть — понять, где предел славы и звездности. И где обрыв. Мне неведомо, куда я иду и чем кончу. Странная штука — когда обладаешь властью, хочется понять, как далеко способен зайти. Я ясно выражаюсь?
— Не совсем. Это же только пьеса.
— Ты слышал о Ти Геттине?
— Боюсь, что нет.
— А о «Недоучке»?
— Конечно.
— Это он написал. Величайшее шоу на Бродвее начала шестидесятых годов. Фильм заработал миллион, сделал Клару звездой, выиграл несколько премий «Тони» и «Оскаров», а Ти принес состояние и репутацию самого обещающего сценариста своего поколения. Что-то вроде нового Теннеси Уильямса. Пару лет назад я с ним встречалась в Нью-Йорке. Живет в темной квартире на Верхнем Уэст-Сайде с двумя таксами. С тех пор он больше ничего не написал. Сидит у пишущей машинки и стопки чистой бумаги, окруженный афишами и наградами в рамках. Он не сумел. И это не писательский ступор. Это ступор славы. Ти не понял, простирался ли его талант дальше первой пьесы и где его пределы. А теперь знает: его слава — только до привратника. Друзья ему твердят: «О чем речь? Ты написал „Недоучку“. Этого вполне достаточно. Больше, чем большинство людей сделали за всю свою жизнь». Но у него что-то вроде рака. Успех обратился в опухоль, которая пожирает жизнь. Вот почему это надо сделать. Мне необходимо знать.
— Ты великая.
— Ты так думаешь? Правда?
— Правда.
В дверь позвонили.
Ли проверила, на месте ли сумочка, сценарий, жвачка, мазь для смягчения губ, сигареты.
— Я готова. Господи, такое ощущение, что мне двенадцать. Все будет хорошо, я уверена.
— Конечно. Только не опоздай на первую репетицию. Вот возьми яблоко для Стюарта. И позвони.
Ли подхватила сумочку, сценарий и яблоко и побежала к двери, но на полдороги остановилась, вернулась и крепко обняла Джона. Сжала меж ладонями лицо и вгляделась, поражая своей яростной, неистовой красотой.
— Я тебя люблю.
Джон долго не вставал. Ли произнесла эту фразу впервые. В постели они выкрикивали и сопели, любили каждый дюйм своих разгоряченных тел, но не до последнего, чтобы вот так, в одежде. Признание прозвучало в первый раз. Словно начало чего-то нового. Но Джону показалось, будто это конец. Сгустившаяся в доме сентиментальная мрачность рассеялась. Предчувствия и видения Ли унесла с собой. Остался лишь покалывающий холод. Джону сделалось невыразимо одиноко. И он ушел к друзьям и забытым книгам.
— Привет!
— Хай! Выглядишь отменно. Красавчик — совсем сжился с Бонд-стрит. — Клив присел рядом. — Это мое? — Он взял кружку с пивом, которая дожидалась уже десять минут. — Извини, задержался. Никак не мог вырваться. Как дела в Звездограде?
— Естественно, по-звездному.
— Еще бы. Мы за тобой следим. Так… слухи, газеты. Последняя фотография просто блеск. Где это — «Картье», «Асприз»? Или, может быть, «Теско»? А пиджак? Отпад.
— Клив, подожди. Извини.
— За что? Тебе не за что извиняться.
— Ну, тогда, после похорон, драка, Петра, сам понимаешь.
— Проехали.
— Вы по-прежнему вместе?
— С Петрой? Да, в определенном смысле. Встречаемся по выходным, если не находится что-нибудь получше. Так сказать, в свободном полете. Она, правда, свободнее меня. Ну, ничего.
— А магазин?
— Как всегда, полно книг, стало еще больше с тех пор, как ты ушел. Покупатели, миссис Пи, денег не хватает.
— Дом с Питом?
— Нормально.
— А роман?
— Не очень продвинулся. Я немного с ним затуркался.
— А «Магги»?
— Стоит. Все по-прежнему, Джон. Все неизменно, безжалостно по-прежнему. Рабочая жизнь идет своим чередом. И чтобы ее изменить, требуются Люфтваффе, гордоновские бунты[66] или Великая хартия вольностей[67]. В рабочем дне все те же тридцать шесть часов по девяносто минут, пинта пива на сорок пенсов дороже, чем у тебя в кармане, молоко по утрам скисает, на автобус опаздываешь, секс какой-то холодный и кончается быстрее, чем надо, а шутки старые. А ты чего ожидал? Что скажу: «Он ушел, и настали блестящие времена»? Извини, рад тебя видеть. Я немного затраханный, но это не твоя вина. А как дела у тебя?
— На первый взгляд все чудесно. А так, тоже затрахался. Ли готовит роль, очень беспокоится, совершенно напугана. У меня ужасное, гнетущее предчувствие. Звучит как-то буквально или по-литературному. Не знаю, как от него избавиться. Беспокойство разъедает, пожирает нас обоих, заслоняет все хорошее.
— Лодырь. Что ж, понимаю… Она богата, знаменита, красива. У вас потрясный дом и в друзьях миллионы звезд, которым не надо работать. Это может угнетать, тревожить, оглушать непомерной дозой головокружительных страхов.
— Клив, ты несправедлив! Обладание деньгами не лишает права чувствовать себя несчастным и встревоженным. Не лишает способности бояться.
— Дело не в справедливости. Подумай, что ты городишь! Звучит вроде как «У моего второго дворецкого корь». У Ли неудачная репетиция? И что из того? Вернись на землю, Джон, поверни как надо мозги. Ты же знаешь, как здесь относятся к трутням. Что ты мне наплел? Хочешь сочувствия — иди к людям, которые способны понять твои проблемы. Если бы ты сообщил, что сломал ногу или у Ли рак, я бы тебя пожалел. Приятели — это те, кто живет в одинаковых условиях, в одном и том же дерьме. А у нас с тобой теперь все разное. Представь, слон приходит к мыши и жалуется: «Что-то хобот ноет». А что такое хобот?
— Ну тебя, Клив! Что это тебя понесло на слонов и мышей? Ты же добрую часть жизни разбирался с женщинами, которые наполовину русалки. Проблемы и депрессия — это алгебра. Те же иксы и игреки. Дело не в индивидууме, а в динамике.
— Ой-ой-ой! Мы что, на передаче «Начнем неделю»? Это паб, мой обеденный перерыв. Не хватало выслушивать суждения об абстрактной природе стресса. Мы здесь тупицы, приятель. — Он хлопнул Джона по плечу. — Давай поговорим о чем-нибудь другом.
— Петра обо мне спрашивает? — Джон сознательно решил уколоть, настолько его поразило и обидело желание Клива воздвигнуть между ними барьер.
— Иногда. — Клив поморщился и потер лицо. — Еще злится. — И добавил не очень уверенно: — Но кажется, больше не зацикливается. Очень жалеет Дороти. У нее это как-то смешалось: разрыв с тобой и ее смерть. Если намереваешься повидаться, очень прошу повременить. Так будет лучше для нее и для меня.
— Трудно тебе с ней?
Последовала долгая пауза.
— Не сказал бы, что трудно. Не легко. Дело в том, что я ее люблю больше, чем она меня. — Клив отвернулся, словно говорил с какой-то точкой на стене. — Притираться сложно. Но выбора нет — приходится принимать то, что преподносит судьба.
— Ты веришь в судьбу? — встрепенулся Джон. — Я в свою не верю!
— Опомнись, я всего лишь продавец. У нас не судьба, а доля, причем отличная от той, что у Ли и у тебя. Оксфамовская доля, сэкондхэндовская доля. — Клив поднял на Джона серокаменные влажные глаза. — Я ее очень люблю. Ты ее так сильно обидел. Мне ясно, что ты видишь это по-другому, но я вижу ее. Она как раненый зверек, а я ничего не могу поделать. Я понимаю алгебру твоих проблем, но, откровенно говоря, не сочувствую. У меня свои проблемы, и мой воротничок теснее твоего. Извини, мне надо возвращаться на работу.