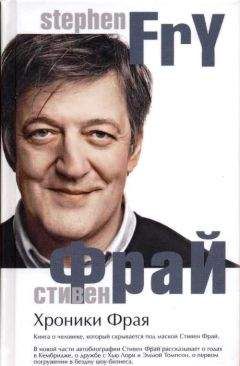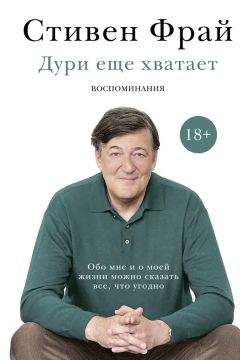Никому не под силу представить себе подобное одиночество. Гарольд попытался закричать, но не смог издать ни звука. Глубоко внутри его разлился холод, как будто кости начали леденеть. Гарольд сомкнул глаза, намереваясь заснуть и не сомневаясь, что ему не выжить, но не имея воли противостоять этому. Проснувшись, он ощутил, как врезается в тело задубевшая сырая одежда, как саднит лицо, опаленное солнцем, а может быть, холодом. Тогда он встал и потащился дальше.
Его распухшие ступни прорвали в одном месте тапочку по шву, а подошвы истончились, словно ткань. Через истертую кожу на носках должны были вот-вот проступить пальцы. Гарольд перебинтовал тапочки синей изолентой, наматывая ее сплошняком, перекрещивая под стопами и затем поднимаясь к щиколоткам, так что обувь стала частью его сущности. Или наоборот? Он готов был поверить, что тапочки обладают собственной, независимой от него волей.
Вперед, вперед, вперед… Других слов Гарольд не знал. Он не понимал, выкрикивает ли он их вслух, или произносит в уме, или кто-то другой направляет его. Порой ему казалось, что в целом мире остался он один. И нет ничего, кроме дороги. Он сам теперь был просто тело, вместившее в себя ходьбу. Он превратился в обмотанные изолентой ноги, идущие в Берик-на-Твиде.
Во вторник, в полчетвертого пополудни Гарольд почуял в воздухе соль. Еще через час он взобрался на бровку холма и увидел раскинувшийся перед ним город, окаймленный безбрежностью, имя которой — море. Гарольд приблизился к розовато-серым городским стенам, но никто не остановился на ходу, не обернулся на него и не предложил поесть.
Через восемьдесят семь дней с того момента, как Гарольд Фрай вышел отправить письмо, он прибыл к воротам хосписа святой Бернадины. Учитывая ошибки и намеренные отклонения от курса, его поход в общей сложности составил шестьсот двадцать семь миль. Гарольд стоял перед современным, незатейливой архитектуры зданием, обсаженным лиственными деревьями. У главного входа высился старинного вида фонарь, а табличка со стрелкой указывала место для парковки. На лужайке в шезлонгах растянулись пациенты, напоминавшие разложенную для просушки одежду. В небе кружила с пронзительными криками чайка.
Гарольд описал плавный полукруг по бетонной дорожке и приставил палец к звонку. Ему хотелось продлить это мгновение, вырезать его из потока времени — свой потемневший палец на фоне белого звонка, припекающее плечи солнце и хохот чайки. Его путешествие подошло к концу.
Память Гарольда вновь пробежалась по пройденным милям, приведшим его сюда. Он окинул взором шоссейные дороги, холмы, дома, изгороди, торговые центры, светофоры и почтовые ящики — с виду совершенно обычные. Они просто встретились ему мимоходом, а могли попасться кому угодно. От этой мысли на Гарольда неожиданно нахлынула тоска, и в том самом месте, где он меньше всего ожидал испытать иное чувство, кроме триумфа, он вдруг ощутил страх. Как могло ему втемяшиться, что этакие банальности возьмут и перерастут в нечто высшее? Его палец по-прежнему лежал на кнопке звонка, но надавить на нее он не спешил. К чему он все это затеял?
Гарольд вспомнил тех, кто ему помогал. Подумал об отвергнутых, нелюбимых — он сам был из их числа. А затем прикинул, чем все это окончится. Он вручит Куини подарки, поблагодарит ее — и что потом? Он вернется к своему прежнему, уже порядком подзабытому образу жизни, где люди отгораживаются от окружающего мира безделушками на окнах. Вернется в спальню, где будет лежать в одиночестве без сна, а Морин будет лежать в другой.
Гарольд закинул на плечо рюкзак и повернул прочь от ворот хосписа. Люди на шезлонгах не приподнялись и не посмотрели ему вслед. Его никто здесь не ждал, а потому не заметил ни его прихода, ни ухода. Самый выдающийся эпизод в жизни Гарольда не оставил по себе никакого следа.
В маленьком кафе Гарольд попросил у официантки стакан воды и разрешения воспользоваться туалетом. Он извинился, что ему нечем заплатить. Терпеливо подождал, пока она внимательно рассмотрит его всклокоченные волосы, продранный пиджак и галстук, постепенно спускаясь взглядом все ниже, к пропитанным грязью брюкам и остановившись, наконец, на тапочках для парусного спорта, едва видных под слоями синей изоленты. Она скривила рот и оглянулась через плечо на особу в сером пиджаке, беседующую с клиентами. Та женщина была старше по возрасту и, несомненно, по статусу. Официантка предупредила Гарольда: «Постарайтесь не задерживаться», — и проводила его до дверей уборной, стараясь невзначай не коснуться его.
В зеркале Гарольд увидел смутно знакомое лицо. Кожа на нем обвисла темными складками, словно на черепе было ее слишком много. На лбу и на скуле непонятно откуда появились порезы. Шевелюра и борода выглядели запущеннее, чем он предполагал, а из ноздрей и бровей выбивались отдельные колючие волоски, похожие на проволочки. Не старик, а посмешище. В нем не осталось ничего от человека, который пошел отправить письмо. В нем больше ничего не напоминало о паломнике, носившем футболку с надписью и позировавшем перед фотокамерами.
Официантка принесла ему воды в одноразовом стаканчике, но присесть не предложила. Он осведомился, не одолжит ли ему кто-нибудь бритву и расческу, но тут подоспела администраторша и указала ему на вывеску у окна: «Не попрошайничать». Она предложила Гарольду уйти по-хорошему, или она вызовет полицию. Он направился к двери, и никто не проводил его благоговейным взглядом. Гарольду подумалось, что от него, должно быть, дурно пахнет. Он так много времени провел под открытым небом, что уже забыл, какие запахи хороши, а какие — не очень. Он давно замечал, что люди конфузятся в его присутствии, и не хотел доставлять им лишних огорчений.
За столиком у окна молодая пара гулюкали над своим малышом. Резкая боль пронзила все естество Гарольда, и он еле устоял на ногах.
Он обернулся к администраторше и посетителям закусочной — они в упор смотрели на него. Гарольд сказал им:
— Я хочу видеть сына.
Выговорив эти слова, он весь затрясся — но не обычной дрожью, а забился в конвульсиях, идущих из самого его нутра. Скорбь перекосила ему лицо, раздирая грудь и пробивая себе путь к самому горлу.
— Где же он? — поинтересовалась администраторша.
Гарольд сжал кулаки, изо всех сил стараясь не упасть.
Администраторша снова спросила:
— Вы пришли сюда навестить сына? Он живет в Берике?
Кто-то положил руку на плечо Гарольду и участливо спросил:
— Простите, сэр, это вы идете пешком?
Гарольд судорожно вздохнул. Доброжелательность посетителя разорвала его душу напополам.
— Мы с женой читали о вас в газетах. У нас здесь живет знакомый, с которым мы давно потеряли связь. А на прошлой неделе мы приехали его навестить. Мы вспоминали о вас…
Гарольд слушал его, не отнимая руки, но ничего не отвечал — просто стоял с окаменевшим лицом.
— А кто ваш сын? Как его зовут? — не унимался человек. — Может быть, я могу чем-нибудь помочь?
— Его зовут…
Сердце Гарольда вдруг оборвалось, как будто он взошел на стену и оступился в пустоту.
— Он — мой сын… Его зовут…
Администраторша выжидательно и хладнокровно взирала на него. И посетители, и участливый человек, все еще державший Гарольда за рукав, тоже ждали ответа. Они даже представления не имели. Не могли вообразить себе того ужаса, смятения и раскаяния, что лютовали в сердце Гарольда. Он не мог вспомнить имя собственного сына.
На улице молодая женщина попыталась вручить ему какой-то листочек.
— Уроки сальсы для тех, кому за шестьдесят, — пояснила она. — Обязательно приходите. Начать никогда не поздно.
Но ему было поздно начинать. Давным-давно уже поздно. Гарольд исступленно помотал головой и, пошатываясь, двинулся прочь. Его ноги вдруг стали совершенно бескостными.
— Возьмите листовку, — не отставала девушка. — Всю пачку возьмите. Можете выбросить ее в корзину, если что. Мне просто очень хочется домой.
Гарольд, спотыкаясь, брел по улицам Берика с толстой кипой листовок, не зная, куда теперь идти. Люди уклонялись с его пути, но Гарольд шел, не обращая на них внимания. Он уже простил своих родителей за то, что они нехотя произвели его на свет. За то, что не научили любить и даже не научили нужным словам. Заодно он простил и их родителей, и тех, что были прежде них.
Ему хотелось только одного — увидеть своего сына.
27. Гарольд и другое письмо
«Милая девушка с автозаправки,
Я должен рассказать тебе всю правду. Двадцать лет назад я схоронил моего сына. Никакому отцу такого не пожелаешь: мне очень хотелось увидеть, каким человеком станет мой сын. И сейчас хочется не меньше.
Я до сих пор не понимаю, почему он так поступил. Он впал в депрессию и употреблял спиртное вперемешку с лекарствами. Не мог найти работу. И я всем сердцем жалею, что он не обратился тогда ко мне.