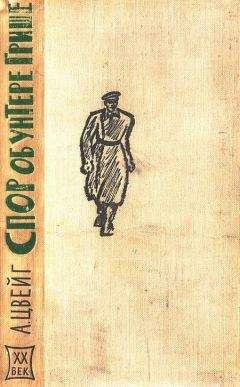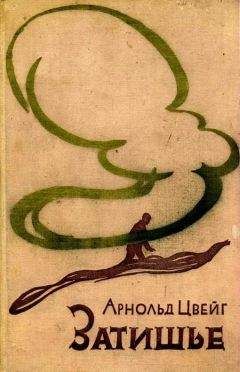Он уже выдернул палку из травы, собираясь, по поручению господа бога, хватить ею меж рогов прусского черта и заодно выколоть ему железным наконечником глаза, эти глаза гиены, освободить от него мир.
Он уже заливался слезами, и дикие рыдания отдавались у него в груди, в горле, во всем теле, — но тут он вдруг свалился навзничь в траву.
И так и остался лежать, весь в слезах, у ног оцепеневшего, но все же отдававшего распоряжения Лихова: унести его! Восемь месяцев граф провел у Изонцо, пока наконец его не откомандировали в дивизию Лихова, так что к этому сумасшедшему отнеслись с состраданием и испытывали легкие угрызения совести.
Всем было жаль бедного графа. Праздник был немного омрачен, но не прерывать же его! Его превосходительство кусал нижнюю губу. День и так уже кончался нехорошо. А тут еще эта безобразная сцена.
— Продолжать, — коротко приказал он.
К несчастью, ротмистр Бреттшнейдер, желая рассеять неловкое молчание, с самыми добрыми намерениями обратил внимание присутствующих на нечто, пока еще скрытое деревьями, но, по-видимому, предвещавшее потеху. Он пробежал еще метров двадцать до поворота аллеи и, покатываясь со смеху, звал всех подойти поближе. Подошли.
— Ура, да здравствует Гамбринус, да здравствует Вакх!
Сплошной гул, словно бой барабана, пение, громкий женский визг.
По главной аллее парка, освещенной пестрыми бумажными фонариками, двигалась, окруженная молодыми лейтенантами, прапорщиками, сестрами — Эммой, Клен, Траутэ, Аннеми, — настоящая праздничная процессия. В центре, на пустой бочке, возвышаясь над плечами четырех денщиков, восседал Гриша Папроткин-Бьюшев. С обнаженной грудью, в белой куртке нараспашку, с головой, увенчанной плющом, и пустым бокалом в руках, он распевал во всю глотку высоким грубым баритоном революционную песню, ту самую, которую он слышал в момент побега из лагеря.
Он пел по-русски, — никто не понимал его, — громко отбивая правым сапогом такт по бочке, а надтреснутый бокал звенел в том же ритме. Осколком Гриша поранил себе подбородок, кровь топкой струйкой текла по шее, но он не обращал на это внимания.
Он был опьянен своим торжеством, он чувствовал себя совершенно свободным, Григорием Ильичом Папроткиным, унтер-офицером 118 пехотного полка, георгиевским кавалером, участником многих сражений и штыковых схваток, боев с ручными гранатами и ружейным огнем, воякой, не раз ускользавшим из-под носа у смерти. И он собирался довести до конца свою речь, великую речь о прощении военнопленного.
— Точно Эйлерт Левборг[4] с виноградной лозой в волосах, — произнес какой-то сапер из образованных. А его превосходительство с неестественно приветливой улыбкой, странно противоречившей гневному блеску глаз, хрипло спросил:
— Кто затеял еще и эту историю?
Лейтенанты рассмеялись.
Господин ротмистр фон Бреттшнейдер рассказал им тем временем, что случилось с русским. В награду за его стойкость, за то, что он, несмотря на смертный приговор, принял участие в обслуживании дивизионного празднества, ему преподнесли две порции коньяку, смешав его со стаканом пива из слитых остатков, приправив все сигарным пеплом. После чего он произнес речь, к сожалению, по-русски, речь, не понятую никем, за что, однако, был награжден железным крестом третьей степени, нарисованным малярной кистью у него на спине.
— Эскадрон, кругом! — прокричал кто-то.
Четыре денщика с пьяной улыбкой на разгоряченных лицах, выполнили приказ. Гриша очутился спиной к офицерам. Широкий черный крест шел от ворота к заду и поперек спины к обоим плечам.
— О! О! — удивился его превосходительство.
Гриша с уверенной ловкостью пьяного человека повернулся и, сидя верхом на своем высоком круглом сиденье, обратился с речью к изысканному кругу своих слушателей.
— На свете столько всепрощения, — воскликнул он по-русски, — что хватит на всех людей, даже на немцев. Среди них есть хорошие парни. Я видел, как мои товарищи, пленные русские, выбирали картофельную шелуху из мусорных ям и дохли от голодного тифа. Это тоже простится! Я видел, как многие из них шли со связанными руками, с проволочными петлями на шее, как они падали, обессилев. Но этого не надо вспоминать: простить, простить! Ведь это же были только русские, пленные! Простить… и даже если некоторые бросались в отхожие места и тонули там — простить и по-братски забыть! Все в жизни просто! Я это понял! Все ясно, и хорошо, и прекрасно, а война — это только так, невзначай, ошибка. Ружейные приклады пойдут на рукоятки для молотков, сталь и железо на инструменты. Папроткин обнимется с Бьюшевым, а бедная Бабка — тссс — ее мы не будем трогать!.. — Он так крепко ударил себя рукой по губам, что пошатнулся и внимательно посмотрел на окровавленную руку. Отчаянный смех был ответом на эту речь и на этот жест. Тон убежденного всепрощения и доброты, сквозивший в этом прерываемом икотой потоке слов, иначе и не мог быть принят. Но благодаря этому перерыву силы, к счастью, покинули Гришу. Он подался вперед и сказал: — Тевье… Поди ты со своим смыслом жизни… Никто не обязан умирать за это. Ты просто дурак еврей! — Тут Гришу вырвало.
— Отставить! — возмущенно закричал его превосходительство. Все присутствовавшие разделили его негодование. — Экая грязная свинья, этот русский!
Глава третья. Телефонные провода
Десять часов вечера. В информационном отделе штаба дым коромыслом, В широко раскрытые окна глядит усеянное звездами августовское небо.
Вокруг планеты неприметно вибрируют токи энергии, которыми наполнена вселенная. Человек научился использовать один из этих видов энергии. По проволоке передаются слова. С неуловимой скоростью скользят от человека к человеку жужжащие колебания насыщенного электричеством эфира. Эти производимые словами колебания вновь облекаются в слова, передают мысль.
За аппаратом сидит, надев наушники, как, бывало, зимою в Вогезах, телефонист ефрейтор Энгельс.
Неизвестно, нарушает ли он этим служебную инструкцию. Он слышит каждое слово. Над ним склонился ефрейтор Левенгард, он весь любопытство, горящая трубка чуть не вываливается у него изо рта.
— Человече, — попыхивает он, — насыплет он ему? Стукнет его хорошенько по башке? Да скажи хоть слово, человече!
В эти времена — самые бесчеловечные из всех времен — солдаты часто называют друг друга «человече».
Ефрейтор Энгельс только нетерпеливо машет рукой и прислушивается.
То, что он слышит, видимо, целиком его захватило. Он сидит тут, словно пианист со связанными руками перед клавиатурой рояля. В этой комнате, где так напряженно слушают, не раздается ни звука. Тишина так глубока, что кажется, будто трели соловья, который далеко за окном, в кустах бузины, раньше срока начал свою волшебную ночную песнь, — самые громкие звуки на земле. Да еще где-то вдали, на горизонте, тихо гудит автомобиль.
— Человече, — обращается Энгельс к приятелю, прикрывая рукой отверстие телефонной трубки. — «Вы что, убийцей меня сделать хотите, черт возьми?» — вот что отрезал старик этому солдафону.
— Небось самому Шиффенцану он этого не скажет!
— Плохо ты знаешь Лихова!
— Ему тоже приходится действовать по инстанции. Не знаю только, какой смысл напускаться на этого Вильгельми? Ведь он только на побегушках у Шиффенцана.
И оба снова слушают. Телефонисты, да и любой, кто слышал этот разговор, могут из него полностью ознакомиться с несложным делом Бьюшева. Человека приговорили за проступок, которого он, как ясно доказано, не совершил. И, вместо того чтобы заново пересмотреть дело, Бьюшева хотят расстрелять. А Лихов противится этому.
— Ясно, старина, Лихов не станет потакать такому делу!
Однако Энгельс, опытный, бывалый, несмотря на свои двадцать два года, солдат, машет рукой и, выждав некоторое время, задает в трубку вопрос в раз навсегда предписанной форме, которая исключает хотя бы нечаянное обращение солдата к начальству просто на «вы»:
— Разговор продолжается? Разговор продолжается? Разъединяю! — И, вынув вилку, он разъединяет кабинет его превосходительства и кабинет военного судьи Вильгельми в Белостоке. Изрядное количество километров лежит между ними! Затем, закурив папиросу, он говорит:
— Конечно, старика на это дело не подбить — по крайней мере я так полагаю. Но за жизнь Бьюшева я теперь и сигареты не дам.
— Человече, — говорит Левенгард, — ведь это же убийство! Ведь он невиновен!
— А когда ты ползком пробираешься через проволочные заграждения к аппарату «А», чтобы подслушивать разговоры французов, виновен ты тогда или невиновен? А если такая вылазка добром не кончится, что это — убийство или нет? Нашел у кого искать справедливости, у пруссаков! И сигареты не дам за Бьюшева со всеми его потрохами.