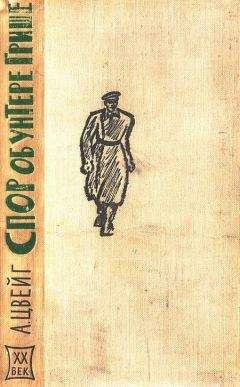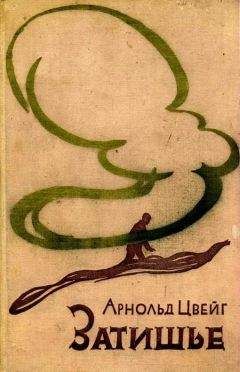— Как, разве ты думаешь, что старик не сумеет настоять на своем?
— Чепуха, — сказал Энгельс. — Старик, конечно, будет стаять на своем. Но если он будет тянуть в одну сторону, а Шиффенцан в другую, то кто перетянет? Боюсь, что старик останется с носом. Захочет Альберт — и Бьюшев будет жить. Не захочет — и крышка Бьюшеву!
— Так ты полагаешь, что Шиффенцан хочет угробить его?
— Кто знает, старина! Тут сам черт не разберет. Может быть, Шиффенцану наплевать на это дело и Вильгельми просто форсит. Тогда мы больше и не услышим об этом деле.
— Вот это было бы мне по душе!
— Или же эта история станет костью, за которую дерутся две собаки. Тогда — помяни мое слово — Шиффенцан разъярится, как доберман.
— Бедняга Бьюшев!
— Да что и говорить! В таких случаях всего хуже достается этой самой кости.
— А вдруг к тому времени заключат мир, старина? — попыхивая трубкой, вздыхает Левенгард.
Для него было бы тяжелым ударом, если бы в его войсковой части, да и вообще в немецкой армии, имел место случай такого хладнокровного, преднамеренного убийства. Ему двадцать лет. До войны он занимался историей искусств.
— Известно ли уже самому Бьюшеву об этой приятной новости? — прибавил он озабоченно.
— Старина, да ведь он вовсе не Бьюшев! Говорят, что он — Папроткин. Я уже давно слышал об этом.
— А мне небось не рассказал?
— Я обещал Бертину молчать.
— Ну и удивится Папроткин, или как его там зовут, когда узнает, как обернулось его дело!
— Можешь спокойно называть его Бьюшевым, от Бьюшева ему не так-то легко отвертеться.
Клапаны коммутатора продолжают отскакивать. Дежурство идет своим чередом. Соловей за окном замолк.
Поставщики обыкновенно входят в доверие солдат. Поэтому Бабка, торговка ягодами, с некоторого времени осмеливается посещать своих клиентов в помещении тюрьмы и даже караульной. И так как она, оказывается, питает симпатии к Грише или просто знакома с ним — не разберешь этого толком, когда люди так быстро болтают на незнакомом языке, — то время от времени ей разрешают даже поговорить с Гришей в его камере, конечно при открытых дверях.
Вообще, после того как солдаты прослышали, что сам Шиффенцан, как ни трудно этому поверить, требует головы Гриши, ему стали оказывать всевозможные послабления.
Дело идет к ночи. Зарницы дрожат и полыхают по небу, словно большие трепещущие ресницы какого-то робкого божества.
Гриша сидит на корточках, упершись локтями в колени, и сжимает руками ноющую от боли голову. Он — в этом нет ничего удивительного — осунулся, под глазами легли черные тени, лоб как бы выпирает наружу, нижняя челюсть выпятилась, словно во рту ощущение чего-то горького.
Сидя на опрокинутом ведре и прислонясь спиной к стене, Бабка смотрит на него пытливым умоляющим взглядом. Ей хочется, чтобы Гриша заговорил, а он молчит.
Высоко над ее головой, словно темно-голубая камея на черном бархате, светится тюремное оконце.
Бабка ласково уговаривает Гришу, как жеребенка, которого приручают. Ведь ничего же особого не случилось! Велика беда — напоили, насыпали в водку пепла или чего-то там еще, от чего пьянеют еще быстрее, чем от мухоморов, размалевали спину, протащили верхом на бочке! Эка важность! Это им должно быть стыдно, а не ему!
— Не сиди ты так, будто вот-вот помрешь от стыда!
Молчание. Она начинает снова. Но пока они молчали, в камеру заглянула зарница, слегка осветив, словно искорками, все ее голые углы.
Он держал речь, его вырвало — что ж тут такого? С каких это пор мужчины казнят себя, когда выкинут что-либо с пьяных глаз? И внезапно, в надежде добиться чего-нибудь резкостью, она судорожно сжимает руки в кулаки и с криком протягивает их к нему:
— Гриша, да не молчи же, будто меня здесь нет! Я не стерплю этого — возьму и уйду.
В надежде воскресить былые хорошие времена, она бросает ему старое грубое и ласковое слово:
— Олух-солдат!
Гриша в самом деле словно просыпается. Должно быть, он понял ее слова. И, приходя в себя от охватившего его глубокого удивления — вот, значит, как устроен мир! — он тихо говорит ей:
— Уходи, Бабка, так будет лучше. В меня кто-то целится, — таинственно прибавляет он, указывая на окно, где снова сверкнул мимолетный яркий свет, — опасно оставаться у меня, — заканчивает он расслабленным тоном человека, выбившегося из сил, выздоравливающего после тяжелой болезни.
Бабка облегченно вздыхает: наконец-то он заговорил! Она чувствует себя победительницей, она считает, что дело как-никак сдвинулось с места.
— Новый приговор? Сколько лет? — спрашивает она, и сразу попадает в самую точку.
Гриша жаждал получить утешение от единственного настоящего друга, с которым он здесь, на земле, связан крепкими узами, иными, чем с Марфой, которая в состоянии только молиться за него.
— В том-то и загвоздка, что никакого нового приговора нет, — воскликнул он. — Старый приговор остается в силе, Бабка. Там, в Белостоке, рассудили, что Бьюшева надо убрать. И Бьюшев — так полагают они — это я. Делай что хочешь — не верят они Папроткину! Правде надо бы поверить. Ан нет!
На мгновение Гриша жалеет, что заговорил с Бабкой. Забыв, где она находится, она начинает так громко смеяться, будто она у себя дома, в своей хате среди дикого леса.
— Тсс, — сердито шипит Гриша, но Бабку всю трясет от смеха. Она смеется животом, грудью, глоткой, ртом, и кажется, будто от этого презрительного смеха колеблется весь мир.
Впрочем, нет большой беды в том, что она смеется. Тюрьма сейчас почти пуста, караульные расположились на скамьях во дворе, пишут письма домой или читают. Все окна открыты, в комнате им пришлось бы жечь свет, а свет надо экономить.
В конце концов ее смех побеждает. Начинает улыбаться и Гриша.
А ведь и в самом деле смешно! Всякому известно, кто он такой. Он — Папроткин, его нельзя смешать с Бьюшевым, как нельзя смешать лошадь с плугом и молоток с гвоздем. Фрицке и Биркгольц ведь дали показания в его пользу, все это записано. И вот поди же. Тут что-то не так.
Бабка продолжает покачивать головой. Она словно обессилена от презрения.
— Ну, ладно! — наконец говорит она, откашлявшись. — Теперь я спокойна. О-го! Дьявол, значит, опять себя показал! То-то мне было не по себе, будто мир перевернулся с тех пор, как ты появился в лесу. Такое наступило спокойное житье, будто дьявол расселся там наверху, в креслах у господа бога. Ловко же он это сделал, хитро закинул петлю, заманил тебя в ловушку, да еще я помогла. Плюй мне в лицо! Рви волосы на голове! Нет, лучше не трогай — еще повредишь маленькому в моей утробе.
— Тише, тише, — с чувством превосходства и с какой-то важностью говорит Гриша. — Не кричи ты, как кошка в мешке, незачем беситься. Умру завтра — и дело с концом. Или послезавтра. Чем скорее, тем лучше. — Надоело мне все это, — закончил он без особой силы, но с такой искренностью, которая испугала Бабку. — Будь что будет, — добавил он, вытянулся во всю длину на нарах, положив руки под голову, и взглянул наверх, на окно, Намочи полотенце и положи мне на голову, — попросил он устало. — Помирать собираюсь, а боль терпеть не хочется.
Бабка поспешила исполнить его просьбу. Она намочила и выжала полотенце, и он с удовольствием почувствовал холодное прикосновение к затылку и усталому лбу. Она придвинула ведро и, усевшись на нем, стала уговаривать его бросить все эти мысли о смерти.
Но он попросил дать ему поспать, а если не спать, то просто лежать и… дивиться.
— Вот, — он поднял палец к окну странным, испугавшим ее жестом, — снова блеснула зарница, тишина, так хорошо сейчас думать и дивиться про себя.
— Не иначе, как они подсунули тебе какое-то зелье! Ты не хочешь отбиваться, не хочешь собраться с силами!
Гриша возражает: уж не думает ли она, что он считает все конченным? Ничуть не бывало. Здешний генерал и его люди не дадут его погубить. Нет, этому не бывать. Есть еще люди, которые верят ему и которые понимают разницу между Папроткиным и Бьюшевым.
— Они заслонят меня от того, другого, — сказал он, — а верх возьмет тот, кто поближе. А и вправду, — закончил он, — что-то новое у меня на душе, я и сам не заметил, как оно пришло.
Бабку обуяла дикая ярость против всех этих властей, которые охотятся за Гришей и подтачивают его силы.
«Дьяволы, — думала она, — мерзкие черви! Они прогрызли его насквозь, как древесный червь проедает балку… Солдат! — молит она, — солдат, да приди же в себя, вспомни! Тот, кто целится издалека, вернее попадает. Пуля бьет лучше дубинки, пушка — крепче ружья, а молния — страшнее всех. Разок-другой даже генерал заступится за солдата, а если из этого ничего не выйдет, ему и горя мало. Ведь это ясно как день. На бога надейся, а сам не плошай…»