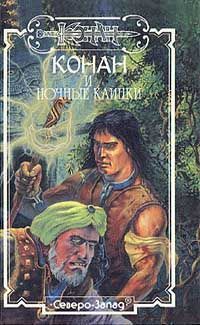рабочих, они и работают. А что он им платил - черт его знает.
— И потом, - вступил в разговор пожилой человек Сорокоумов. - Ты учти - тебе все придется самому доставать: красочку - раз, известочку - два, шпаклевочку - три. Так что подумай!
— Сам все сделаю, - ответствовал Канашкин, не поднимая головы.
И тут встала громадных размеров женщина Катерина Давыдовна Младенцева. Она подошла к столу Канашкина со своим стулом. Села напротив и сказала, глубоко дыша:
— Виктор Валентинович, ты посмотри на меня. Ты видишь, что правый глаз у меня красненький?
— Ну вижу, - невежливо признал Канашкин.
— Вот. - Женщина заговорила басом. - За тридцать два рубля он у меня красненький, мой правый глаз! Тоже
ко мне пришли, обмерили стены и говорят: "Тридцать два рубля". А я им: "Идите вы к черту!" (Вроде тебя.) Я сама, говорю, сделаю (вроде тебя). Взяла краскопульт, налила туда, по инструкции, известки и чуть не лишилась правого глаза.
— Как так?! - ахнули служащие.
— А вот так. Брызнуло, и все тут. Помните, я бюллетенила, вы еще ко мне с яблоками приходили?
— Помним, - вспомнили служащие.
— Так что - думай, - сказала дама и, забрав стул, ушла от Канашкина.
— Руки все посотрешь! - кричали служащие.
— Да и вообще! - уговаривали они.
— А накладные-то расходы, накладные. Нет, ты подумай, - все кипятился Сорокоумов. - Тебе ж выпить захочется с устатку!..
На шумок заглянул и начальник, товарищ Пугель. Славен он был тем, что выкопал в городе четыре подвала. Он часто переезжал с места на место, меняясь и расширяясь. И везде копал подвалы. Он любил свои подвалы. На вечеринках он всегда рассказывал про свои подвалы и показывал трудовые мозоли, полученные вследствие подвалов.
— В чем дело, товарищи? - строго осведомился он. - Что тут у нас? Дискуссионный клуб "Литературной газе
ты" в рабочее время?
— Тут вот Канашкин задумал самостоятельно квартиру ремонтировать...
— Да? - подобрел начальник. - Ну и как, Канашкин?
Чувствуешь свои силы?
— Чувствую, - отвечал Канашкин, смело глядя в лицо начальника.
— Молодец! Я, знаете ли, люблю людей, которые все делают своими руками. Мне кажется, что они и на производстве как-то... дисциплинированнее, чем все эти... любители прачечных, - сказал начальник.
И ушел. А вскоре исчез и Канашкин. По каким-то своим личным, а может быть, даже и производственным делам. И по его уходе среди людей состоялся следующий разговор:
— Вот подлец! Умеет же соврать! Весь рабдень где-то шатался, а ловко так загнул - квартиру, дескать, он ремонтирует...
— А я вот никогда ничего придумать не могу, кроме как что мне надо в больницу...
— А я всегда, что мне нужно кого-то из родственников встретить...
— А мне и вообще в голову ничего не лезет. Даже как-то стыдно...
И служащие погрузились в глубокое молчанье..." И тут я оторвался от рукописи и с надеждой заглянул в строгие глаза Николая Николаевича Фетисова, своего старшего друга и непризнанного гения, проживающего у нас в полуподвальном помещении.
- Все! Конец!
- Конец так конец, - пробурчал он, затягиваясь сигаретой "Памир".
Мы сидели на осенней скамейке близ Речного вокзала. Желтые листья плавно кружились. В сопках стлался туман. Белый теплоход, протяжно гудя, выходил на середину реки Е.
— Ну и как вам оно, Николай Николаевич? – дрогнув голосом, спросил я.
— Это сатира, что ли, и называется? – осведомился Николай Николаевич.
— Ну, - обрадовался я. - Это - сатирический рассказ. Я его подправлю и куда-нибудь пошлю.
— И возьмут?
— Может, и возьмут. У меня уже штуки четыре таких опубликовано. Тут же и критика, и намек, да и вообще...
интересно.
— К черту ты его пошли, к черту, а не в газету! - вдруг взвился Николай Николаевич.
Я обомлел. А он вдруг снова изменился. Широкая улыбка осветила его испитое лицо. Золотой зуб засиял невыносимо.
- Я вот тебе щас расскажу! Если сумеешь написать - станешь великий писатель планеты. Значит, так. У одного
выдалась крайне неудачная неделька. В конторе много мантулил, потом гости приехали с деревни и всю дорогу
керосинили. На лестнице подрались, а как-то к утру уже застучала в дверь по ошибке какая-то чужая, шибко беременная чмара. Она разыскивала своего неверного возлюбленного. Кричала нахально, громко - все не верила, что ее кобеля тут нету. На скандал опять соседи рылы высунули. Дескать, все это им надоело, будут писать в ЖЭК заявление. Ну, мужик и струсил. А вдобавок ему утром приносят какую-то повестку, чтобы пришел и все свое имел с собой. Мужик повздыхал, повздыхал, а потом взял да и повесился. Все. Конец.
Я обозлился.
- Ну вот ты скажи, Николай Николаевич! Ведь ты же умный человек. Вот, допустим, написал я такой рассказ - кто напечатает такой бред?
— А это уже не мое дело, - надменно отозвался Николай Николаевич.
— И потом - чего это ему вешаться? Вообще никому не надо вешаться. Есть масса других выходов.
Но Николай Николаевич молчал. Я тоже замолчал. Мы погрузились в глубокое молчание. Мы сидели на осенней скамейке близ Речного вокзала и молчали. Желтые листья плавно кружились. В сопках стлался туман. Но белый теплоход уже не гудел, потому что он уже ушел.
— А что, может, выпьем, Николай Николаевич? - сказал я.
— Это - другой разговор, - ответил Фетисов[2].
Тут недавно в Швеции опять Нобелевские премии давали за картины, и не явился один лауреат, фамилию которого я называть не стану, а звали его - Витя.
Его они очень долго ждали, держа доллары в руках, но он все равно не явился. Ни туда, ни сюда, ни оттуда, ни отсюда - он никуда больше не явился. И никто про него никогда ничего уже больше ни от кого не слышал, потому что он, несмотря на знатность, был холост и одинок, весь себя отдавая лишь своей замечательной работе.
А случилось с ним вот что. Будучи юношей, он жил в Сибири, в городе К., где и занимался борьбой дзюдо и учебой в художественном училище.
И вот однажды вечерком он идет домой на квартирку по висячему мосту через речку Качу, а его на мосту встречает бедно одетый хулиган. А он и сам был одет достаточно скромно, в кирзовые сапоги.
Хулиган злобно посмотрел на бедного юношу, почти подростка, и грубо приказал, указывая на его старенький этюдник:
- А ну, покажь, что у тебя в сундуке, пфимпф!
Витя же ему совершенно ничего не ответил. Он в эти
секунды глядел ошеломленный на одинокую Полярную звезду, указывающую с неба путь заблудшему человечеству. Какое-то озарение охватило внутреннюю душу будущего мастера, и он прошептал сам себе:
- Полярная звезда!..
- Покажь портфель, падла-курица! - наступал на него хулиган. Но юноша все не слышал: невыразимым
томлением и сладкой болью была наполнена его внутренняя душа. Неземным томлением и такой болью, которые имеют право наполнять лишь душу человека, который рано или поздно получит Нобелевскую премию. Так что он хулигану и опять не ответил.
А хулиган тогда зашипел по-змеиному и стал кружить вкруг художника. А художник молчал и его не видел.
- Ну, я тебя щас резну! Ну, я тебя щас свисну! - вскричал тогда хулиган и занес над будущим лауреатом
невооруженный, но пудовый кулак. И он бы выбил из головы мастера любую Полярную звезду, но за миллионную долю секунды до соприкосновения его кулака с Витиными мозгами Витя очнулся и хотел бы крикнуть, что - нельзя!
Нельзя бить! Нельзя убивать! Нельзя! Нельзя! Нельзя! - хотел бы крикнуть он. Но, увы! Тело нас не спрашивает.
Наше тело само принимает решения. Витя за миллионную долю секунды уклонился от удара и той же головой с теми же думающими мозгами страшно ткнул хулигана в горло.
Отчего хулиган пал, дернулся и затих, мертво глядя на все ту же Полярную звезду. Но ему не было дано увидеть Полярную звезду и ее неземной свет. Он упал, дернулся и затих, потому что он был мертв.
Или убит. Яне знаю. Не знал и художник. Он посмотрел на тело бывшего хулигана. Он втянул голову в плечи, и он тихо ушел прочь, домой, на квартирку, в уголок, который он снимал у бабушки-татарки, среди саманных домиков и грязи, на берегу вонючей речки Качи.
Далеко за полночь он еще рисовал, а утром следующего дня проснулся внешне спокойным человеком и никогда справок о трагедии на висячем мосту не наводил. А и чего их наводить? Таких диких случаев в те далекие годы было очень много, а слухов - итого больше. Он проснулся спокойным человеком.
И не берусь прямо утверждать, но вроде бы с того-то дня и началось его головокружительное восхождение. Уж ясно, конечно, что не сразу зримо с того дня. Но с отличием было закончено художественное училище, но тут началась Академия художеств, но тут потом дипломы пошли, и папки красные, и отличия, и третьи места, и вторые места, и первые места.
Вот. А он уже немного стал старенький и как-то раз вечером включил транзисторный приемник и слышит - награжден-де премией Нобеля художник Витя из Советского Союза. Он тогда, конечно, очень обрадовался и вышел на балкон своей квартиры в одной московской улице. Вышел освежиться, чтобы радость его улеглась или приняла приличное направление.