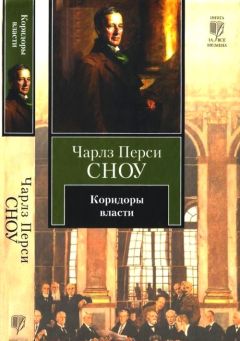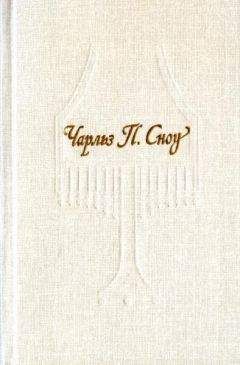— Вы тогда причисляли себя к крайне левым?
Я заранее настроился не запираться, однако это оказалось нелегко. Мы с Монтейтом говорили на разных языках. Мой самоконтроль был под вопросом. Тщательно подбирая слова, однако голосом едва не срывающимся, я произнес:
— Я верил в социализм. Как и практически все мои сверстники. Но политиком, в том смысле, в каком настоящие политики понимают это слово, я никогда не был. Политике себя надо посвятить, а я был молод и к этому не готов. Меня другое интересовало.
На слове «другое» честные глаза Монтейта вспыхнули. Он улыбнулся, но не оттого, что нашел мой ответ забавным, — он ободрял меня улыбкой. Сам я остался недоволен собой. Прежде меня никогда не допрашивали. Методы давления стали мне противны, ибо я понял, каковы их механизмы. Сказанное мною было правдой — но прозвучало как попытка оправдаться.
— Конечно, — продолжал Монтейт, — для молодого человека вполне естественно увлекаться политикой. Я сам увлекался, в университетские годы.
— Неужели?
— Меня отличало то же рвение, что и вас, только я, напротив, заседал в Клубе консерваторов. — Сказано было с невинным удовлетворением, словно данное откровение имело целью изумить меня, словно речь шла о председательстве в ячейке нигилистов.
Миг откровений миновал, Монтейт снова напустил на себя деловитую готовность назвать меня лжецом.
Тридцатые годы, начало адвокатской карьеры, женитьба, первые дни Гитлера у власти, гражданская война в Испании.
— Вы относили себя к убежденным антинационалистам?
— В то время, — ответил я, — в ходу была другая формулировка.
— Вы хотите сказать, что осуждали действия генерала Франко?
— Конечно.
— И ваше осуждение принимало общественно значимые формы?
— Я не делал ничего выдающегося. Сам всегда считал свои действия недостаточными.
Монтейт перешел к моему членству в таких-то и таких-то комитетах. Я подтвердил: все правильно, состоял, являлся.
— Ваша деятельность предполагала контакты с лицами крайних политических взглядов?
— Да.
Монтейт снова назвал мою должность.
— Вероятно, контакты с некоторыми из этих лиц были весьма тесными?
— Вероятно, вас интересуют конкретные люди?
— У нас нет сведений о том, что вы состоите — или когда-либо состояли — в Коммунистической партии…
— Будь у вас такие сведения, — перебил я, — они были бы ложными.
— Допустим. Однако в Коммунистической партии состояли некоторые ваши друзья.
— Назовите фамилии.
— Таковых, — отвечал Монтейт, — было четверо: Артур Маунтни, физик, еще двое ученых, Р. и Т., и миссис Чарлз Марч.
— С Маунтни, — сказал я, — мы никогда в друзьях не ходили. — (Как этот Монтейт опять ловко свел к моей самозащите.)
— Бог с ним, с Маунтни, — продолжил Монтейт, — он в тридцать девятом вышел из партии.
Даты у него буквально от зубов отскакивают, с досадой думал я.
— С Т. я тоже тесно не общался. С Р. — да, с Р. мы дружили. Особенно во время войны.
— Вы виделись с Р. в октябре прошлого года?
— Должен признаться, сейчас мы вообще редко видимся. Но я его очень уважаю и люблю. Такие люди, как Р., не часто попадаются. Мне повезло.
— А про миссис Марч что скажете?
— Мы с ее мужем подружились еще в юности и дружны до сих пор. Чарлз познакомил меня с Энн в доме своего отца лет двадцать назад. С тех пор мы поддерживаем отношения. Три-четыре раза в год Марчи с нами ужинают.
— То есть вы не отрицаете, что остаетесь в тесном контакте с миссис Марч?
— Разве из сказанного мной можно сделать вывод, что отрицаю? — вскричал я — утомили намеки на мою природную лживость.
Монтейт изобразил улыбку, любезную и уклончивую.
Я заставил себя успокоиться, попытался перехватить инициативу.
— Пожалуй, пришло время прояснить пару-тройку моментов, — сказал я.
— Проясните, сделайте одолжение.
— Во-первых, я не намерен предавать друзей. Я считаю это неприемлемым вне зависимости от их политических убеждений. Энн Марч и Р. — люди благороднейшие; впрочем, даже и в противном случае я не стал бы трепать их имена. Наведите справки — и узнаете, что у меня хватает знакомых, безупречных в аспекте политической принадлежности, однако достойных осуждения практически во всех остальных аспектах.
— Вы правы: по наведении справок я был весьма впечатлен вашей толерантностью, — ответил, нимало не смутившись, Монтейт.
— Но вас ведь не окружение мое интересует?
Он склонил свою красивую голову.
— Вы хотите выяснить мои политические убеждения, не так ли? Почему же вы прямо не спросите? Впрочем, одним словом тут не ответишь. Во-первых, годы меня почти не изменили. Да, я кое-чему научился, кое-что узнал, но и только. Я на этом пункте потом подробнее остановлюсь. Как я уже говорил, я никогда не увлекался политикой до такой степени, чтобы применить к себе определение «политик». Не увлекался — но интересовался. Льщу себя надеждой, что понятие «власть» для меня не звук пустой. Поверьте, за свою жизнь я насмотрелся на власть, причем в различных проявлениях. А тот, для кого понятие «власть» не пустой звук, не может власти доверять. Вот одна из причин, почему на меня не повлияли убеждения Р. и Энн Марч. Еще в тридцатые мне было ясно как день, что концентрация власти — например как у Сталина — слишком опасна. Не думаю, что я тогда сгущал краски, просто власть внушала мне подозрения. Кстати, я не обольщаюсь и насчет возможностей политики. В этом плане можете не волноваться. По-моему, и в официальной жизни нужно придерживаться кодекса чести. А что еще остается?
Монтейт смотрел не мигая и молчал.
— Буду откровенен, — продолжил я. — Полагаю, наши с вами представления о кодексе чести не слишком разнятся. А что разнится, так это представления о назначении политики. Я уже говорил: я не обольщаюсь относительно возможностей политики. Зато безошибочно угадываю, какие именно надежды на политику возлагаются. Я изначально подозревал, что революция в России запустит самые кошмарные механизмы власти. Я этих подозрений не таил, почему и ссорился с Энн Марч, с Р., да и с прочими моими друзьями. Но это еще не все. Я всегда считал, что власть коммунистов двулика. Коммунисты сделали много хорошего — но и много плохого. Если в один прекрасный день они одумаются, ужаснутся — они, пожалуй, сумеют построить идеальное общество. Я и сейчас в этом убежден — пожалуй, сильнее, чем когда-либо. Не знаю, чем коммунистическое идеальное общество будет отличаться от американского общества, но пока обе модели существуют, для людских чаяний ничего не потеряно.
Монтейт по-прежнему молчал. Несмотря на свою работу, а может, благодаря ей, он думал о политике в единственном ключе — как о некоем боссе, которому он, Монтейт, обязан добывать информацию. Он не жаловал теорий, рассуждений, умозаключений. Кашлянул и произнес:
— Еще несколько вопросов, сэр. Ваша первая жена перед самой войной сделала крупное пожертвование в пользу одного коммуниста. Это правда?
— Вы и фамилию знаете?
Он назвал фамилию, которая ничего мне не говорила.
— Вы уверены?
— Абсолютно.
Я ни об этом коммунисте, ни о пожертвовании никогда не слышал.
— Если пожертвование и имело место, — сказал я, — то, поверьте, не из идеологических соображений.
Монтейт будто повернул время вспять. Я снова был отчаявшийся, еще молодой человек, обремененный непредсказуемой женой; человек, еще способный эту жену ревновать, но выучившийся пассивно смотреть, как она ищет того, кто хотя отчасти растопит внутренний лед; человек, еще места себе не находивший, когда она исчезала, когда неизвестно было, где она и с кем; еще благодарный каждому, кто располагал сведениями; еще дергающийся на звук ее имени.
Повисло молчание. Наконец Монтейт смущенно пробормотал:
— Мне известно о вашей личной трагедии. Я больше не стану задавать подобных вопросов.
Однако на сем смущение и иссякло.
— Но вы-то, сами-то вы — вы же посещали собрания… — Монтейт выдал название организации, именуемой нами «Фронтом», но не в то время, которое он имел в виду, а позднее.
— Не посещал.
— А если хорошенько подумать?
— Я же говорю: не посещал.
— Странно, очень странно. — До сих пор Монтейт действовал как профессионал, то есть успешно скрывал враждебность. Теперь, видимо, его терпению пришел конец. — У меня имеются свидетельства очевидца. Этот человек утверждает, что на собраниях сидел рядом с вами. Он в деталях описал вашу внешность. Вы, по его словам, однажды отодвинули стул от стола и сказали речь.
— Повторяю: здесь ни единого слова правды.
— Сведения поступили от человека в высшей степени надежного.
— От кого же это?
— Вам должно быть известно: я не вправе раскрывать источники информации.