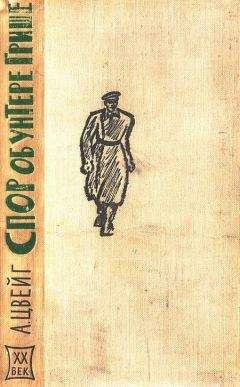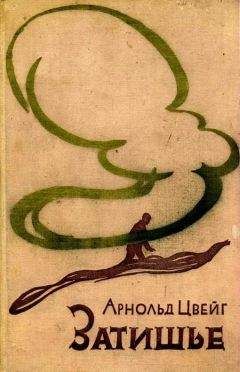Выход найден! Конечно, имен называть не надо, если все же станут доискиваться причин задержки бумаг; с другой стороны, никто не сможет его заподозрить в том, что он не выполнил приказа «старика».
— Ведь я могу надеяться, что все будет в порядке, приятель? — сказал ефрейтор, вставая.
Бертин успокоил его.
Оставшись один, он еще раз мысленно обозрел поле сражения. Никто не давал распоряжения об отказе в выдаче дела, ибо никто не допускал, что Шиффенцан будет действовать так дьявольски быстро и прямолинейно. Поэтому Бертин до известной степени сам отвечал за свои действия. Но после короткого размышления он решил, что его поступок вполне обоснован. Натиск Шиффенцана был пока что отражен пешкой Бертином.
Но все же Бертин беспокойно бегал взад и вперед по комнате. Внезапно ему перестали нравиться его стихи. Цезаря вдруг заслонил бледный, напоминающий о попугае профиль с тяжелыми отвислыми щеками и двумя глубокими складками над верхней челюстью: так выглядел на всех портретах Шиффенцан.
После короткого размышления Бертин протелефонировал о происшедшем военному судье. Познанский в это время завтракал после верховой прогулки в лесу. Крайне обеспокоенный, он прокричал в трубку:
— Вот они — темпы Шиффенцана!
Но затем он похвалил дипломатическое искусство Бертина и обещал, вместо того чтобы заняться игрой на скрипке, повидаться с обер-лейтенантом Винфридом и добиться подтверждения того, что его превосходительство остается на прежней позиции.
Винфрид сделал удивленное лицо. Конечно, его превосходительство остается на прежней точке зрения. Пусть комендатура не ставит себя в смешное положение — дело еще не закончено, кое-кто рассчитывает еще высказаться по этому поводу.
И они порешили, что если только не случится чуда, противной стороне не видать как своих ушей ни приговора, ни приказа об его исполнении.
Полчаса спустя военный судья Познанский вежливо и дружелюбно вызывал по телефону канцелярию комендатуры.
— По-видимому, произошло недоразумение, ведь и отделение УПВ может ошибиться, дело Бьюшева далеко не закончено. За подтверждением, если оно понадобится, можно обратиться непосредственно к председателю суда, — конечно, официальным путем.
Ефрейтор Лангерман благодарно свистнул, даже не догадываясь о том, что приведенный в действие канцелярский аппарат развивал, чтобы выгородить его, Лангермана, усиленную деятельность.
Тем временем в Берлине, в главной ставке убедились, что попытки папы содействовать окончанию войны принимают более ясные очертания. До сих пор не было речи ни об Эльзас-Лотарингии, ни о, восточных провинциях, говорилось исключительно о Бельгии. Но и этого было достаточно, чтобы всполошить самую маленькую и самую могущественную партию Германии — партию генералов, крупных промышленников и профессоров.
Так как папского нунция поощряло к вмешательству окружение кайзера (а может быть, и его величество лично), то дело спасения государства представлялось особенно трудным и настоятельным. И Альберту Шиффенцану, политическим орудием и сотрудником которого стал так удачно выдвинувшийся военный судья Вильгельми, приходилось обдумывать более трудные и рискованные шахматные ходы, чем вопрос о том, рассматривает ли дивизия Лихова дело Бьюшева как случай еще не решенный или же как causa iudicata[5].
Кроме того, все служащие оперативного отдела в Брест-Литовске, попыхивая сигаретами или сигарами, страстно ждали отправки дивизий для завоевания Курляндии, Лифляндии, Эстляндии и вообще половины мира. Германия крепко вцепилась в Восток… Она подтягивала сюда войска, снимала войсковые соединения с более спокойного западного фронта, присоединяя к ним морские военные силы, чтобы сначала захватить, во имя великой цели, острова Эзель и Даго, маленькие ненужные кучки песку, заплатив за них сотнями молодых жизней.
Шиффенцан хотел преподнести несколько приунывшему королю прусскому герцогскую корону Курляндии — той Курляндии, которая граничила с Финляндией — и тем самым отвлечь германского кайзера от болтовни о мире…
Лишь одна незначительная перемена говорила о том, что личность Гриши приобрела в глазах комендатуры большую цену. Комендатура приставила к нему конвойного, ефрейтора Германа Захта, которому с заряженной винтовкой надлежало сопровождать его повсюду вне тюрьмы, — чрезвычайно благодарная форма несения службы в жаркое лето 1917 года.
Поэтому военный судья Познанский часто вопрошал себя или Бертина.
— Если бы только знать, что замышляет Альберт? Он хранит «демоническое» молчание!
Бертин же, комедия которого тем временем благодаря внезапному появлению молодой греческой дамы Периклеи, все больше будоражила и увлекала его, доказывал, что только сумасшедший может предполагать, будто дивизия станет приводить в исполнение приговор, который она сама считает недействительным и необоснованным. Познанский в ответ невразумительно бормотал что-то про себя, жевал сигару и выглядел очень озабоченным, сам не зная почему.
Глава пятая. Не обошлось без водки
Бабка… Она жила у Вересьева, точно кошка, существо независимое, которое появляется и исчезает, когда вздумается, и всегда слоняется, неизвестно где. Она не доставляла купцу никаких неудобств, хотя он все чаще окидывал подозрительным взглядом раздавшуюся фигуру своей гостьи, которая, как ему казалось, беременна. Но каждый раз, когда он хотел выяснить это, она уже опять уходила — сумрачная, молчаливая, с глубокой складкой между бровей.
Она слишком уважала Гришу, его изменившийся внутренний облик, чтобы смеяться над его верой в генерала. Но сама она в генерала не верила.
Черт злорадно мстил ей за все оскорбления; он навязал ей сначала безрассудную любовь к прохожему человеку, сделал его затем отцом ее ребенка и уготовил, наконец, ее милому смерть в выгребной яме, обсыпанной известкой. До сих пор черту удивительно везло, и моментами Бабка в припадке ярости скрежетала зубами, но старалась овладеть собой ради своего еще не рожденного ребенка. Да и, кроме того, она была слишком занята, чтобы давать волю своим чувствам.
Задуманный ею план побега был прост и широк; препятствий не предвиделось. Как-нибудь вечером, а вечера теперь наступали рано, когда отделение отправится в караул — она уже успела перезнакомиться со всеми караульными, — оглушить своих немецких друзей сладкой, настоенной на яде водкой или, может быть, даже отравить их, — смотря по тому, как сложатся обстоятельства, — и раскрыть пред Гришей все двери.
Цветы у дурмана белые, воронкообразные, плоды напоминают каштаны, а листья зубчатые, красивого темно-зеленого цвета.
Он растет у заборов в пригородах и у мусорных ям — не из романтического пристрастия к местам, с общим стилем которых гармонирует ядовитость, а просто потому, что в других местах люди не дают ему расти. Это datura stramonium. Что касается бешеной вишни — atropa belladonna и черного паслена — solanum nigrum с красновато-коричневыми колокольчиками или белыми звездочками, то они обыкновенно тянутся к своему соседу — дурману, тоже ядовитому. Бедные ядовитые растения, непригодные для широкого использования в промышленности, живут вдали от света, и надо быть природным натуралистом, преследующим особые цели, как Бабка, чтобы вдруг вспомнить о них.
Б теплые августовские ночи людям, испытывающим влечение друг к другу, неохота сидеть в комнате. Иногда дружные между собою две влюбленные пары сговариваются о том, чтобы вместе наблюдать падающие звезды, которые сулят счастье и исполнение желаний.
Когда ночами луна, будто круглый, насквозь пронизанный светом плод, висит между листьев, особым предпочтением как места для прогулок пользуются расположенные в стороне, за городом, сады.
Если улечься, — например, в лунную ночь на палаточном полотне, в тени густых кустов сирени, перед домиком обер-лейтенанта Винфрида, то звезды, как светящиеся червячки, так и поползут сквозь ветви.
Тихий шорох травы, — то прошмыгнул еж, — внезапные движения невидимых в темноте спящих птиц, едва оброненные слова — о сигарете или бокале вина — вот и все звуки: ночная роса осторожно ложится на одеяла, которыми укрываешься.
Глубокое, упоительное ощущение лета. Очарованная ночью человеческая душа — тоскующая или удовлетворенная — растет, ширится, как бы тянется к высоким вершинам деревьев, вбирает в себя черные массы листвы.
Винфрид и Барб, глубоко умиротворенные, счастливые, Бертин и Софи, сроднившиеся телом и душой — одна из этих душ все время уносится на запад, к Леоноре, другая страстно тянется к человеку, который — она знает это — дарит ей только сегодняшний день. И все же в теплом воздухе, между кустами и дерном струится счастье, спокойное, нежное счастье молодости, расцветшее на фоне всеобщего отчаяния и не угасающей надежды на освобождение.