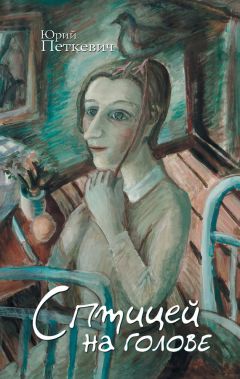Встал и повернул назад. Дядя Жора на холме у последнего дома. Увидел меня, остановился. Поднимаюсь к нему. Что-то надо сказать. Говорю:
— Почему она одна и куда пошла?
— Мама? — спрашивает.
— Корова, — говорю.
Выпал снег, но совсем немножко — на тротуарах его растоптали, остались одни следы от сапог и ботинок, след на следе, и так несколько раз — и от снега ничего; только там, где не ходят и не ездят, он сверкает на солнце.
— Сегодня приснились, — начала Фрося, — мордовороты. На скамеечке, — показывает, — вот здесь. — Подходим к ларьку. — Очень хочу куриную ножку, а в этом ларьке продают копченых кур. Даже деньги есть, — открывает кошелек.
— Ты успела получить пенсию? — спрашиваю.
— А как же, — говорит, — я тебя сегодня угощаю, а то у тебя, Юра, никогда нет денег. Одну курицу, пожалуйста, — достает из кошелька деньги.
— Через полчаса будет готова, — говорят из ларька. — Будете ожидать?
— Через полчаса… — с разочарованием протянула. — Не будем, холодно ведь, а что еще у вас есть?
— Пицца с грибами, пицца с сыром, пицца с ветчиной… На витрине смотрите.
— Гамбургер — это вкусно?
— Очень вкусно, попробуйте, можно одну порцию на двоих.
— Да, пожалуйста, одну, — говорит. — Попробуем, только разрежьте пополам.
— Обязательно. — Продавщица берет нож.
— Мордовороты приснились… — продолжает Фрося. — А с неба опускают лестницу…
— Кто опускает? — спрашиваю.
— Одиннадцать рублей, — говорит продавщица.
Фрося подала сто, ей обратно продавщица протягивает восемьдесят девять — по рублю; Фрося пересчитала сдачу и спрятала кошелек в сумочку. Из окошечка на картоночках подают две половинки порции. Не люблю, когда все перемешано, а она любит.
Попробовала.
— Вкусно, Юра, — говорит.
И я откусил. Когда есть хочу, все вкусно.
— Продолжай, — прошу Фросю.
— …Лестницу, — повторяет она, — а на скамейке с краю оставалось место. Я присела — рядом самый большой и страшный мордоворот; обняла его, а ты усмехнулся.
— Куда ты идешь? — спрашиваю.
— Переходим дорогу, — удивляется Фрося.
— Ты не видишь, что милиционер на автобусной остановке у всех подряд проверяет документы?
— Ну и что? — говорит. — Я их не боюсь. Потом ты дал мне банан, я начала есть…
— Ну так я боюсь! — хотел прошептать, но так получилось, что заорал — и побрел по улице наискосок.
Канаву, на дне которой черные трубы, уже засыпали, но асфальт не положили. Мороз сковал грязь в колеях; иду, спотыкаясь о замерзшие комья глины. Откусывал от гамбургера и жевал, с каждым шагом оглядывался, пока Фрося не догнала меня.
— Но это был не банан, а дым ; когда я распечатала шкурки, он буквально повалил, и я его ела, ела, торопилась съесть — он ускользал изо рта. Я ела его и заплакала, а ты украдкой смеялся и катался на качелях на дереве. Листья с деревьев осыпались охапками, а за ними опускали с неба лестницу. Я съела дым, и меня раздуло; тогда ты взял меня за руку, мы вошли по ступенькам в загс; я и оттуда из окна увидела, как лестница раскачивается, как качели…
На морозе гамбургер остывал, и пальцы озябли, я быстро его съел, а Фрося, позабыв про свою половинку, продолжала:
— У меня загорелся лоб, я его — к бетонному полу. Ты скорее на второй этаж в женский туалет, а я сбросила туфли, чтобы ты не услышал, как ухожу; на цыпочках к выходу — едва разминулась с двуглавым орлом…
Я не вытерпел и говорю:
— Ешь, холодный — невкусно, а у тебя сегодня праздник.
— Да, — согласилась она, и — с набитым ртом: — Очень хотела есть и укусила двуглавого орла — теперь знаю, что у них куриные ножки…
— Ешь, ешь, — повторяю.
А она еще:
— Как больно было взбираться босиком по железной лестнице! Потом встретила очень галантных кавалеров в синих халатах и сверху еще помахала тебе.
— А вот, — показываю, — и фонтан, подожди меня, — смотрю на часы, — здесь.
— Ладно, — заметно погрустнела.
— Ешь, — говорю.
Перехожу на другую сторону улицы. Один фонтан солидный, а два — поменьше; я заглянул: немножко снега на донышках, как в вазочках мороженое. Прошелся по кругу и оглядываюсь на Фросю. Стоит и держит перед собой гамбургер. Показываю ей зубы — сам будто ем. Она меня поняла и — откусила, а я вздохнул, прохаживаясь вокруг большого фонтана.
Не могу стоять на месте. В который раз смотрю на часы. На другой стороне улицы Фрося жует холодный гамбургер. Холодный, наверно, совсем невкусно. Прыгаю. Перед фонтаном ступеньки. Одни — скользкие, лакированные; выбираю те, которые выщерблены. Пока прыгал — небо затуманилось, посыпался снег, и Фрося съела гамбургер, смотрит на меня — и я невольно смотрю на нее; по выражению ее лица вижу: какое у меня лицо — и отворачиваюсь. Навстречу дует, на глазах от ветра слезы — тут за моей спиной Фрося поскользнулась на лакированной ступеньке.
— Что случилось? — оглядываюсь.
— Все на меня смотрят, — показывает на прохожих, — они копируют все мои жесты, каждое движение, потом интерпретируют: каждый по-своему, и в меня эти «копии» возвращают.
— А ты не смотри на них, — говорю, — смотри на меня.
— На тебя больно смотреть.
— Пусть будет так, — загрустил, — но это лучше, чем на них.
Побрела назад; только я оглянулся — уже затерялась в толпе; небо приобретает странный серо-буро-малиновый оттенок, и снег начинает сыпаться разноцветный, искрится и сверкает, — когда мне кажется, что они, все они видят, какое у меня лицо, и я не знаю, куда его деть.
Отвернулся от них; тут Маша замахала мне издали — с той стороны, откуда не ожидал, и я спешу к ней навстречу. Она прижала руки к груди и рассыпалась в извинениях, затем выхватила зеркальце — от зеркальца зайчик задрожал на ее лице.
— Все на месте, — говорю, — можешь, Маша, не сомневаться.
— Нет! — Щеточкой по ресницам.
— Да! — утверждаю.
— Я проспала, — объясняет.
Смотрю на часы и удивляюсь:
— Ты поздно ложишься?
— Нет, — отвечает, — ложусь нормально, но долго не могу уснуть.
— Я, — вспоминаю, — тоже сегодня никак не мог уснуть.
— Даже не позавтракала, — жалуется. — Давай чего-нибудь перекусим.
Перешли на другую сторону площади, к вокзалу.
— Зайдем на минутку — погреемся, — говорит.
— Почему у тебя одна рукавичка? — спрашиваю.
Сначала приятно было в помещении погреться, потом пришел поезд — в одну минуту пассажиры нанесли снега, он растаял, на полу под ногами замешалась грязная каша, а под нею блестели мраморные плитки, на которых легко можно поскользнуться.
Вышли из вокзала, Маша увидела в киоске булочку.
— Хоть раз укусить… — и она так улыбнулась мне, как тогда, когда я покупал конфеты и сказал про дырку в сумке, и — опять у Маши ямочки на щеках.
Я наклонился, чтобы поцеловать ее, — прядь со лба упала на глаза, и я подул на волосы — успел увидеть, как Маша робко посмотрела на меня, и одного этого взгляда оказалось достаточно, чтобы сердце забилось иначе.
— Выбирай, — говорю, — тут разные.
— С орехами.
— Что будешь пить?
Не глядя, она ткнула пальцем.
— Томатный сок?
— Что угодно, — говорит. — А ты?
— Есть не хочу, — я вспомнил половинку гамбургера. — Не так давно перекусил.
Отошли в сторону, к забору, и тут я увидел среди прибывших пассажиров Зинаиду с мальчиком. Она в модном пальто с норковым воротником и в норковой шапке тащила все тот же чемодан, а Павлик повернулся ко мне, но взгляд его проскользнул дальше. Я не сразу понял: куда? Маша жевала булочку; вдруг зазвучала труба. Сидел на снегу нищий и дудел. Тут подъезжает шикарный автомобиль, у которого вместо стекол зеркала. Из него выходит в костюме с иголочки какой-то важный господин, подхватывает у Зины чемодан и целует ее в щечку. Я еще раз увидел, как Павлик оглядывается на трубу. Она от времени потеряла блеск и приобрела матовый цвет пасхального яйца. Когда Маша цедила из соломинки сок, совсем рядом прошла Фрося, остановилась около нищего с трубой и бросила ему в шляпу монетку…
После полудня лучи солнца обжигают, но воздух ледяной. На уровне верхушек деревьев стены у зданий, кажется, обрезаны ножницами; обрезаны неровно, будто ребенком; иногда отхвачены и верхушки — приходится переступать через завядшие ветки, которые остро и терпко пахнут на горячем асфальте.
— Осторожно, — Ребров тянет Риту за рукав, — не видишь? Пьяный за рулем!