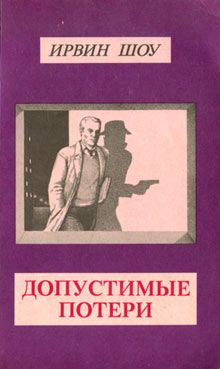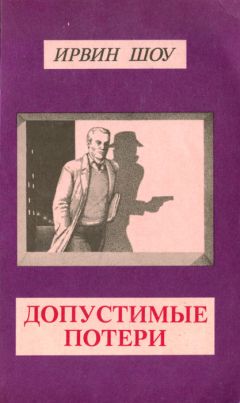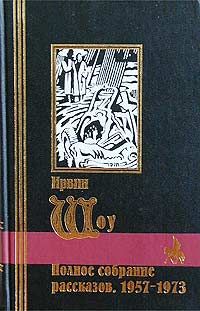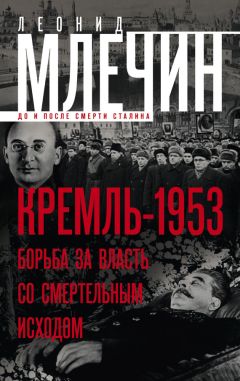— Почему вы плачете? — не скрывая симпатии к ней, спросил Деймон.
— Я влюблена в Оливера Габриелсена, — всхлипнула она, — он тоже любит меня, и мы поженимся.
— Ах, Пенни, вы рождены для рыданий. Вы вечно будете плакать.
— Я знаю, — плача, ответила она. Потом поцеловала его мягкими влажными губами и, подхватив чемоданчик, спустилась по трапу.
Доктор с бычьей шеей в застегнутом на молнию дождевике, украшенном надписью «Вирджинский университет», остановился перед Деймоном.
— Вам что-нибудь нужно принести с берега?
Деймон подумал.
— Кока-колу, — сказал он. — Со льдом.
— Будет сделано, — доктор стальной хваткой пожал ему руку. Затем тоже спустился по трапу, и все огромное судно осталось в распоряжении Деймона.
К полудню его перевели в отдельную палату. Деймон не спрашивал Шейлу, каким образом ей удалось это сделать, и она ему не говорила. В палате были душ и туалет, и когда с помощью костылей, без которых он не мог передвигаться, Деймон добрался до туалета и расположился в нем, он испытал состояние, близкое к экстазу. Опираясь на костыли, он посмотрел на себя в зеркало. Перед выходом из реанимации парикмахер побрил его, и черты его лица теперь резко обострились. На него смотрел человек, которого он с трудом узнавал: бледно-зеленая кожа, обвисшая на костях, как старый пергамент, глубоко провалившиеся потухшие глаза… Глаза мертвого человека, подумал Деймон, а затем, осторожно выбрасывая перед собой костыли, дюйм за дюймом добрался до палаты, где Шейла и нянечка помогли ему улечься в постель, потому что у него не было сил сделать это самостоятельно.
Ему было приятно увидеть, что в комнате нет часов.
— Я принесла «Таймс», — сказала Шейла. — Хочешь взглянуть?
Деймон кивнул и положил перед собой газету. Дата ничего не значила для него. Заголовки были лишены смысла. Язык казался ему сущим санскритом. Он позволил газете упасть на покрывало. Грудь начал разрывать жуткий кашель. Сестра соединила трубки и через отверстие в горле ввела их ему в легкие, а потом подсоединила компрессор, чтобы сделать вентиляцию. Он уже привык к процедуре, но только сейчас почувствовал, как она болезненна.
Шейла принесла ему шоколадный коктейль с мороженым и яйца всмятку. Такие коктейли нравились ему, когда он был мальчишкой, и он отпил несколько глотков, но затем отставил его. Шейла встревожилась, и он почувствовал себя виноватым, но пить больше не мог.
Повязки с груди и живота уже сняли, но он отказывался взглянуть на шрамы. Сестры по четыре или пять раз в день меняли пластырь на большом пролежне у него на ягодице, на который он раньше не обращал внимания, пока не стал чувствовать боль и от него, и от постоянных уколов, вливаний или переливаний крови. Он отлично помнил все свои галлюцинации, но не был уверен, в самом ли деле происходили такие события в его жизни или они ему просто пригрезились, так что ни с кем о них не говорил. Иногда испытывал сожаление от того, что не умер, ибо был уверен, что из больницы живым не выйдет, и все отпущенное ему время воспринимал как бессмысленное продолжение агонии.
Он отвергал настояния Шейлы и медсестер, круглосуточно по восемь часов каждая дежуривших около него, вставать с кровати и ходить хотя бы по несколько шагов ежедневно. Он пытался есть, но что бы ни брал в рот, все казалось ему комком сухой шерсти, который он с трудом жевал, чтобы потом выплюнуть.
Дневная медсестра взвешивала его каждое утро. Он без всякого интереса выяснил, что весит сто тридцать восемь фунтов. Когда попал в больницу, весил на тридцать семь фунтов больше.
Был в комнате и респиратор, хоти Цинфандель сказал Шейле, что доставить его сюда невозможно. Но Шейла обратилась прямо к старшей сестре, старой ирландской леди, тепло относившейся к ней, и та лишь презрительно фыркнула, когда Шейла передала ей слова Цинфанделя, и сказала, что может за полчаса поставить любой аппарат в любое место. Часто приходил Оливер, пытавшийся развеселить Роджера рассказами о том, как идут дела в офисе, но он заставил его замолчать, сказав однажды:
— Шел бы ты знаешь куда, Оливер!
Деймон помнил симпатичную сестричку Пенни, плакавшую в его сне, когда прош, алась с ним на борту пришвартовавшегося судна.
— Оливер, — спросил он, — ты женишься на Пенни?
Оливер в ужасе посмотрел на него.
— Понятия не имею, о чем вы говорите, — пробормотал он.
— Я долями тебя предупредить, — продолжал Деймон. Сон явно превращался в реальность. — Дорис пара тебе. И кроме того, она из породы победительниц. При всей своей красоте Пенни из тех, кто вечно и непоправимо проигрывает. И ты будешь весь остаток жизни есть хлеб печали. — Умирающий, подумал он, имеет право говорить не кривя душой.
Несмотря на то, что он честно пытался есть то, чем Шейла соблазняла его, и пить сытные молочные коктейли, приготовленные ею, потерянный вес не возвращался, и даже несколько шагов взад и вперед по холлу изматывали его к концу дня. Напряжение и тоска, едва не погубившие его в отделении реанимации, потихоньку отпускали его. Теперь он чувствовал себя спокойным, готовым ко всему, что может случиться.
Мысль о смерти стала для него настолько привычной, что больше его не волновала. Он думал, что если врачи и медсестры оставят его в покое, он умрет умиротворенно, с блаженной улыбкой на лице. Только бы галлюцинации не мучили его после смерти, а чудеса современной медицины не вернули к жизни. Фраза «могильный покой» представлялась шуткой дурного пошиба. Шестьдесят пять — не такой плохой возраст для прощального прохода.
— Время уходить, — сказал он как-то Шейле, узнав, что один из его старых клиентов в Голливуде совершил самоубийство, имея на то весомые, убедительные причины.
Заткнув пальцем дырку в трубке и выполняя инструкции доктора Левина о необходимости глубокого дыхания, он спросил Шейлу, было ли так, что он умер, а потом его вернули обратно.
— Нет, — сказала она, и он поверил, ибо знал, что Шейла никогда не врет, даже по самым серьезным поводам.
Наконец доктор Левин, которого к тому времени Деймон стал считать одним из немногих врачей, умеющих лечить все, влетел в палату и сказал:
— Пора вам говорить как нормальному человеку.
Без всякой подготовки он бесцеремонно извлек трубку и спокойно предложил:
— Поговорите-ка.
Деймон с недоверием посмотрел на склонившееся над ним овальное лицо и подумал, а что я, собственно, теряю? Он сделал глубокий вдох и нормальным голосом произнес:
— Четыреста семь лет назад наши предки основали на этом континенте новую нацию…
— Вот и отлично, — доктор Левин быстро пожал Деймону руку. — Теперь вы больше меня не увидите. И надеюсь, что, когда в следующий раз откроете рот, у вас найдется сказать что-то более интересное. — И с этими словами исчез.
Чувствуя всю прелесть вновь обретенного красноречия, Деймон обратился к Шейле, которая не без страха наблюдала за процедурой:
— В этой палате чертовски жарко. Будь так любезна, включи кондиционер.
Всю свою жизнь, не считая тех бурных лет, когда он хотел стать актером, он относился к людям, которые проводят большую часть времени, читая или слушая слова других людей, но сейчас он целиком принял то лживое утверждение, что дар речи, присущий человеку, существует для того, чтобы отличать его от животных.
Комната была полна цветов, подарков от друзей, клиентов, продюсеров, издателей и просто благожелателей, и до тех пор, пока Деймон но настоял, чтобы телефон вынесли из палаты, в день раздавалось но менее десяти звонков от людей, которые рвались навестить его. Он отказался снимать трубку, и Шейла приняла на себя обязанность отказывать всем, кроме Оливера и Манфреда Уайнстайна. Манфред навестил Деймона в первый же день, когда его выпустили из больницы. Он тяжело ступал, опираясь на палку. Сильно похудел, и щеки его уже не были столь розовыми, как недавно, но чувствовалось, что уходить он не собирается.
Уайнстайн был не из тех, кто любит кокетничать и играть словами. Взглянув на исхудавшее лицо Деймона, он воскликнул:
— Господи, Роджер, а тебя-то кто подстрелил?
— Американская Медицинская Ассоциация. Когда ты сможешь бросить эту палку?
Уайнстайн скорчил гримасу, напомнившую Деймону выражение лица семнадцатилетнего Манфреда, когда, совершив успешный проход в зону противника, он возвращался на скамейку запасных.
— В этом сезоне много очков я не наберу, — сказал Уайнстайн. Он собирался отправиться в Калифорнию навестить своего сына, но пообещал, что вернется, как только услышит, что Деймона выпустили из больницы. Он был взбешен оттого, что нью-йоркская полиция конфисковала его пистолет, так как разрешение на его ношение было действительно лишь в Коннектикуте. — Копы, — презрительно сказал он. — Слава Богу, что хоть не упекли меня в кутузку из-за того, что я попытался спасти от смерти своего друга.