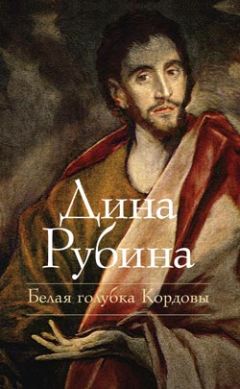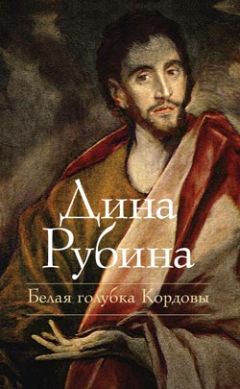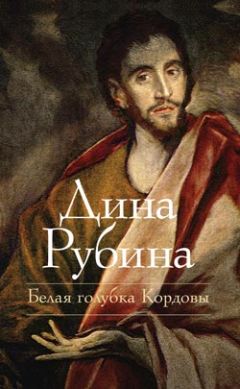Или прикажет в воскресенье «быть как штык» ровно в десять на такой-то остановке и везет их на Пряжку, к последней квартире Блока… А там все немного напоминает Южный Буг: река, лодочная станция. Деревня – не деревня, город – не город…
Людка знала Ленинград досконально, удивительно знала: отец изрисовал его вдоль и поперек, и дочь таскал всюду с собой, с самого малого ее детства. Она знала норные проходные дворы, что, как обручи, насаживались один на другой, арка за аркой, заканчиваясь глухим каменным мешком… откуда дверь какой-нибудь дворницкой вела в сквозную щель, из которой – нырок наружу – и ты оказывался в следующей анфиладе замшелых и темных дворов-колодцев; туда даже в ясный день не заглядывало солнце, а выходя из дому, невозможно было определить – что за погода сегодня.
Людка уверяла, что революция победила потому, что большевики знали все проходные дворы как свои пять пальцев.
Она показывала сохранившиеся в некоторых дворах изумрудные от мха поленницы сырых дров, которыми топили когда-то печи и камины; приводила мальчиков на деревенского вида задворки, где росли душистые сирень и черемуха, и от этих запахов сшибало с ног; а однажды везла их долго на трамвае, посмотреть «аутентичную», заодно и слово выучили, булыжную мостовую, не тронутую со времен Пушкина.
В конце концов, видимо с согласия отца, привела двоих этих гавриков в дом, поразивший воображение обоих.
Это была огромная пятикомнатная квартира в дореволюционном доме на берегу Невы, за мостом Александра Невского: с лепными потолками, двумя алебастровыми колоннами в гостиной, с высокими арочными окнами, вся заставленная антикварной мебелью, частью реставрированной самим хозяином. Людка показала ребятам сундучок с ручками по бокам, который Степан Ильич подобрал на помойке и привел в порядок; оказалось – дорожный ящик конца восемнадцатого века. В гостиной стоял украшенный изящной резьбой великолепный книжный шкаф красного дерева, в стиле позднего Георга III, лаковый китайский шкаф для фарфора, полный тонких, напросвет чашек – каждая со своим именем и возрастом, и фортепиано с бронзовыми канделябрами для свечей, на крышке которого обитали три фарфоровых статуэтки, три многажды битые и клееные маркизы: одна сидела за туалетным столиком, другая держала в руке клетку с птицей, третья пила кофе, кокетливо улыбаясь.
Домработница Ирина Игнатьевна, которую все так и называли по имени-отчеству – ребята сначала приняли ее то ли за тетушку, то ли за гостью, – сервировала чай на чудном столике в стиле «чипендейл», состоявшем из двух половинок, каждая о четырех ногах. Половинки составлялись, получался овал: стол-сороконожка.
Они провели там полдня и плавно остались (пап, можно мальчики у нас и поужинают? – давай, подкорми доходяг) – остались на ужин. Да и не ужин это был, а настоящее барское застолье: льняные салфетки в кольцах, подставки под вилки и ножи в форме мчащихся коней (на вихревую гриву можно было уложить и серебряную чайную ложечку)…
И все было поразительно и непривычно: что это не празднество, не дата какая-нибудь, а – как объяснила Людка – просто ужин в честь приезда папиного друга, директора Рижского государственного музея; что домработница Ирина Игнатьевна не только приготовила всю еду, но и молча и ловко подавала за столом, как лакей во французском кино; что за раздвинутый необъятный, какой-то дворцовый стол свободно уселись, не теснясь локтями, еще несколько гостей: старший научный сотрудник Русского музея, два аспиранта Степана Ильича и еще три какие-то разновозрастные и разновеликие дамы, имена и занятия которых остались неопознанными.
И разговор за столом так легко, с усмешкой, переходил с одной темы на другую, будто невидимый джазист непринужденно перебирал клавиши то в верхнем, то в нижнем регистре, то брал аккорд из трех собеседников, то давал позвучать дуэту, а то вдруг с рассказом или анекдотом вступал соло кто-то из присутствующих…
Степан Ильич разговора не начинал и не прерывал, но ухом хозяина чувствуя, что тема иссякает, двумя-тремя фразами ее комментировал, и беседа или спор сразу вспыхивали другой гранью.
…Вот, значит, как надо в Питере жить, думал Захар, возвращаясь домой, к тетке. Именно так: свободно, с иронией обсуждая любую тему и любого человека; рассказывая, никого не боясь, политические анекдоты, зарабатывая своим трудом и талантом много денег, ни у кого и ни на что не испрашивая позволения…
И вспомнил, как, посмеиваясь, рассказывал сегодня Степан Ильич о приезде Марка Шагала в Питер, году в 73-м… Как вели того по Русскому музею, где, конечно же, ни одной его картины ни на одной стене не висело – все пылились в запасниках. И пока художника вели по залам, некая Милочка галопом мчалась вешать его картину, так что, когда Шагал до своей картины дошел, та еще качалась… И Шагал понимающе улыбнулся.
Вспомнил Захар и огромный кабинет Степана Ильича, с массивным письменным столом, на окраине которого небольшой скалой возвышался старинный чернильный прибор с целой толпой бронзовых зверушек; и лесенку припомнил – великолепную стеллажную лесенку красного дерева, – такую, какая, должно быть, была до войны в кабинете у деда.
Между ленинградской художественной школой имени Иогансона и московским Суриковским училищем был принят обмен студентами. Так что десятый класс СХШ, где учились Захар, Андрюша, Людка Минчина и рыжая одесситка Марго, на целый семестр переместился в Москву. Коренные питерцы, голубая-то кровь, крутили носами и губы кривили, иронически поглядывая вокруг. («Они выводят нас на эту их Красную площадь, – рассказывала потом Людка отцу, – и, представляешь, говорят: ребята, вы находитесь на самой красивой площади в мире!»)
Но все же дышать тут явно было легче, во всех смыслах: учебном, пространственном, человеческом… даже в театральном.
Именно тут всплыла способность Захара воспроизводить живое из неживого: например, извлечь из воздуха бесплатный билет на Таганку – на Высоцкого в «Гамлете».
Выдал его Андрюша, – не задумываясь о последствиях, просто к слову пришлось. Ему-то с Захаром на фиг не нужна была эта самая Таганка. Они-то, при первой же возможности, убегали в Пушкинский или Третьяковку, долго простаивая перед полотнами Врубеля.
В этих напряженных по колориту картинах был такой густой замес печали, что и много часов спустя после расставания вдруг возникали перед тобой тоскующие глаза «Цыганки», «Пана» или «Демона»… Иногда они забегали «навестить» какую-то одну картину, к которой сегодня лежала душа. Входили и шли прямиком, пересекая залы, издали чуя багряный свет Врубелевской «К ночи», с ее удивительным томлением и чуть ли не запахами украинского вечера…
Но девочки мечтали посмотреть на Гамлета-Высоцкого, тем более, курсировали слухи, что тот скоро совсем уедет из России во Францию, к жене Марине Влади. Несколько раз девчонки дежурили у выхода из метро «Таганская», в надежде на лишний билетик, но – ленинградская интеллигентность! – ни разу не повезло: не станешь ведь с ног сшибать, если кто наглый первым выхватит… Накрашенные, завитые, хорошенькие, они возвращались в отчаянной досаде на театр, на Москву, на командировочных, которых понаехало. Пока Андрюша не сказал:
– Да охота вам там колготиться почем зря. Вон, Захара попросите, он что хошь изобразит, он умеет.
Захар был озадачен, припомнил все изысканные увечья, плоды его вдохновенной кисти… попытался отбояриться, но не устоял: особенно многозначительно просила Наталья, неприступная красотка Наталья, к которой он безуспешно подкатывался уже пару месяцев. Потребовал только выдать оригинал – использованный билет, – который ему и принесли на следующий день, подобрав на тротуаре. И просидев полночи, наутро выдал девицам под благодарный восторженный визг четыре идеально исполненных входных билета: на обороте очень натурально шла косая надпись – «вход в зал после третьего звонка запрещен», на месте отрыва контрольного квитка была иголкой проколота перфорация – ровной дорожкой, твердой рукой.
– Ай да За-ха-ар! – повторяла Наталья. – Вот где настоящий талант! А червонец изобразить – слабо?
Он отшучивался, но простодушное восхищение девчонок было приятно. Тем более, что этот легендарный, противозаконный для них спектакль оказался последним «Гамлетом» Высоцкого. Они все потом вспоминали, как бросался принц Гамлет на ползущий по сцене занавес, как кричал со вздутыми венами на шее, и пел, будто в последний раз. Да и в самом деле: в последний раз…
Уже по возвращении в Ленинград он то и дело рисовал кому-то справки от врача – ну, перепил товарищ накануне, отдохнуть охота, отлежаться. Да и делов-то: перекатал на крутое яйцо подпись, а с того – на бумагу. Яйцо можно съесть, не отравлено. Главное, чтоб под рукой были акварельные краски «Ленинград». Там есть парочка очень полезных пигментов, кобальт фиолетовый, например. Кисточку в рот – чтобы линия была ясно-ровной и выглядела натурально: где-то лучше пропечаталось, где-то хуже…