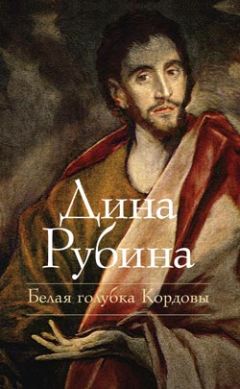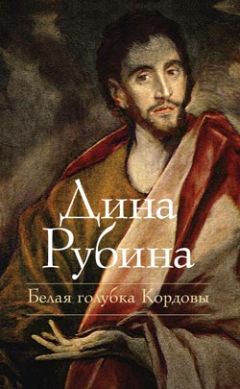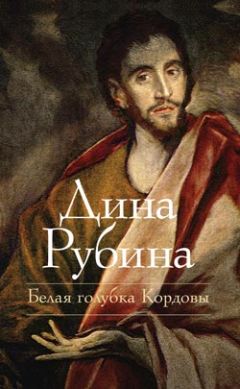Скоро все знали, что Кордовин виртуозно изготовляет любую бумагу.
Однажды, перед выпускными экзаменами, его вызвали из класса. В коридоре стоял не кто-нибудь, а преподаватель с кафедры реставрации академии художеств Константин Михайлович Казанцев.
– Кордовин, – спросил он, – Захар? Все правильно?
Притер Захара к стенке и еле слышно проговорил, дыша казенной котлетой ему в лицо, что хороший человек нуждается в помощи. То ли хороший человек был откуда-то изгнан и теперь восстанавливается, то ли потерял документ, то ли у него этот документ украли… Короче: необходимо извлечь из небытия печать, и чтобы Захар не сомневался, заплатят, не обидят.
– Какую печать? – еще не понимая, спросил он.
Профессор придвинулся ближе, и внятно прошептал:
– Гербовую. Нашу родную гербовую печать.
– В смысле… какой конторы? – он все никак не мог понять – почему Казанцев шепчет и оглядывается по сторонам.
– Конторы? – ухмыльнулся тот. – А вот какой конторы: Союза Советских Социалистических республик.
– Вы Пасху празднуете? – спросила однажды Людка.
Андрюша с Захаром переглянулись и почти одновременно уточнили:
– Которую?
Она рассмеялась и сказала:
– А неважно. Мы, книжники-либералы, празднуем всё… Милости просим, у нас сегодня главная закуска: новый знакомый, коллекционер, страшно занятный. Всех знает, дружит с великими и всех их лечит.
– Психиатр? – спросил Захар.
Людка ухмыльнулась и сказала:
– Нет-с! Сексопатолог.
Коллекционер-сексопатолог даже сидя возвышался надо всеми. А уж когда поднялся – выйти на балкон покурить, – гости, задрав головы, проводили его сутулые плечи в элегантном замшевом пиджаке восхищенными взглядами. Хозяин дома, пузатый коротконогий мужичок Менчин, даже крякнул вслед:
– Ну вы и громила, извините, Аркадий Викторович… Как это вас пациенты не боятся? На вас глянешь, вмиг импотентом станешь.
Чуть-чуть портила импозантную внешность странно торчащая, будто вычесанная вперед, русая борода в форме лопатки, она выглядела наскоро приделанной, как у актера-любителя перед выходом на сцену.
Захар с Андрюшей припозднились. От закусок все уже перешли к горячему, и разговор шел многослойный, бурный, веселый, с какой-то явно иносказательной, затемненно-игривой струей. Минуты через две стало ясно, что гость солирует, не нажимая, в самую точку вставляя остроумные замечания.
Темы крутились, в основном, вокруг его экзотической профессии. Судя по называемым именам – Леонардо… Чайковский… Пруст… Оскар Уайльд – ясно было, с чего начался этот изысканный разговор, который прервал хозяин дома. Степан Ильич аккуратно снял с воротника салфетку, не торопясь, вытер усы и губы… отложил ее в сторону мягким движением, и с кротким вздохом проговорил:
– Понимаю, все понимаю: альтернативные устремления плоти, древние пастушьи традиции великих греков, туманные восторги однополого влечения… Одного не смогу понять никогда: как можно променять сладостный сосуд любви на чью-то грязную жопу.
Людка, шмыгая вокруг стола, наполнила две тарелки всеми закусками сразу, поставила перед ребятами, и те сосредоточенно принялись наворачивать, усиленными темпами продвигаясь к горячему. Тут ничего нельзя было пропустить – Ирина Игнатьевна готовила фантастически – и взять, к примеру, соленый груздь, не подцепив заодно фарфоровым ковшиком маринованных опят, – был грех непростительный. К тому же, обоих не очень интересовала всегда модная тема гомосексуализма, как и вообще любая патология.
К десерту у Минчиных, помимо Ирининых пирогов с ревенем и черникой, всегда подавали фирменные пирожные из «Норда»: желтоватый хрустящий конус, заполненный неуправляемым, с обоих концов выползающим, сливочным кремом, «картошку», фруктовые корзинки, и главное, «пти фюр» – крошечные шоколадные кирпичики. Людка называла их «птифюрчиками» и всегда пододвигала блюдо к Андрюше – в память о первом визите, когда, отчаянный сладкоежка, он в одиночку умял чуть не всю коробку, не поднимая глаз на гостей. Те косились, но – люди интеллигентные – молчали. Понимали: мальчик из провинции.
А коллекционер-сексопатолог от пикантных тем перешел к давней выставке Альтмана, в начале семидесятых. Интересно, шепнул Андрюша, он и Альтмана лечил?
– …эта выставка стала возможной только по одной причине, – заметил Степан Ильич, – Альтман Ленина рисовал, то есть был неприкосновенен. Пускали «паровозом» с десяток лукичей, а там уж можно было и на кое-что другое поглядеть…
– Совершенно верно, – подхватил коллекционер. – Тем не менее, выставку час не открывали, собралась толпа, кто-то выкрикнул: «Абстракционизм в России умер!» – и сразу из толпы в ответ: «Не умер, а убит!». А поверх толпы грозное: «Я знаю, кто это сказал!»… Да, это были времена, доложу вам. У Альтмана я потом подписал каталог выставки. Сам он бьи смешным и трогательным: такая маленькая обезьянка в коричневом костюме, с платочком на шее, весь не отсюда…
У коллекционера был необыкновенного тембра голос – одновременно мягкий и властный, негромкий, но слышный поверх любого разговора. Убедительнейший голос.
Людка шепнула Захару, что Босота – оказывается, у этого великана была такая вот смешная бродяжья фамилия, – купил у папы сразу несколько офортов. И этот вечер, он, конечно, как бы и Пасха, но и обмывка. Вон, видишь, как папаня доволен, даже клюкнул поболе, чем врач разрешил.
– Эй, па-апа! – и пальцем погрозила отцу с другого конца стола, делая страшные глаза…
…Уже заполночь Захар с Андрюшей вышли от Минчиных, и выяснилось, что к вечеру страшно похолодало; они шли по колено в свистящей и треплющей брюки поземке, а когда добрели до моста, оказалось, что тот развели.
– Куда деваться? – морщась от колючего ветра, спросил Андрюша. – А пошли в собор! Там сейчас тепло, надышали. Вот Бабаня была бы довольна! Пошли, я свечку за нее поставлю…
И всю Пасхальную ночь они простояли на ногах меж старух, то и дело задирая головы на знаменитый купол Троицкого собора, со строгими статуями святых работы Шубина.
На рассвете Андрюша христосовался со старушками, называл их всех «бабанями» и был просветлен и возвышен. И назад они шли через кладбище лавры, мимо склепа со славнейшей русской могилой, так просто поименованной: «Здесь лежит Суворов»…
И уже немыслимо было представить, что тот разговор утром, на террасе, мог повернуть совсем в другую сторону, что дядю Сёму мог не впечатлить своими рассказами «дорогой клиент», да этот клиент попросту мог сесть в соседнее кресло, к Исидору Матвеичу, а тому один хрен – что художник, что сапожник; в конце концов, у дяди Сёмы могло не оказаться – совершенно случайно! – адреса Фанни Захаровны – а у той в день получения письма могло быть неподходящее настроение…
И тогда – страшно вымолвить! – тогда бы в их жизни не было Питера: ни школы, ни обожаемого запаха смоченной водой коробочки акварельных красок «Ленинград», ни сводящего зубы известнякового запаха только что отшлифованного типографского камня, ни запаха азотки от травленных досок в офортной; ни лип Летнего сада, изумрудно зеленеющих весной, ни мутного серого льда на Неве, по которому так просто перебежать на другой берег, спустившись по ступеням от сфинксов академии; ни красных кленов Приморского парка, ни блеклого солнца на крупах клодтовых коней, летящих в руках у возничих, ни бронзовой под луной воды Обводного канала, ни звенящих в ночи трамваев, заворачивающих на круг, ни ночного, холодящего сердце: «цок-цок-цок!» – каблучками – по гулкой лестнице парадного…
Не было бы этого странно тлеющего белыми ночами невесомого города, от которого теперь так трудно оторваться, даже на неделю…
На первом курсе академии жить стало куда веселее: у Захара с Андрюшей появилась мастерская – огромная мансарда с отличным верхним светом. Вообще, в Питере с мастерскими было раздолье: любое домоуправление владело сокровищем – нежилым фондом. Полуподвалы, мансарды и чердаки, волнуясь всеми фибрами сплетенных паутин, ждали своих вдохновенных обитателей. Главное было получить справку в деканате – студент такой-то нуждается в мастерской. И если толково подойти к вопросу, можно устроиться и без денег: лозунги к праздникам писать или портрет начальника ЖЭКа.
Захар был гением устройства подобных сделок. И за восемьдесят метров в мансарде дома у Обводного канала, на Лиговском проспекте – седьмой этаж по черной лестнице, – они с Андрюшей обязались расписывать декорации в клубе жилконторы.
Место оказалось густое, исконно питерское. Рядом – гастроном, напротив – кинотеатр «Север». А неподалеку на Пушкинской – там, где скверик с памятником, – в скромном кафе изумительно готовили рисовую кашу с изюмом. Запекали ее в печи, в горшочке, и подавали с тоненькой золотистой корочкой, эх!