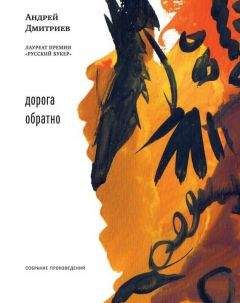Когда Маарет спала, он ходил. Чтобы придать ходьбе подобие смысла, он шел за оленями: в горы, куда они забирались, спасаясь ветром высот от гнуса, или на озеро, где они, объев берег, пили воду, потом вдруг бросались в нее и плыли, должно быть, угадывая там, за озером, обилие нетронутых мхов и оставляя своего непрошеного провожатого в обидном одиночестве.
Посреди озера торчал из воды пологий камень, издали не отличимый от головы плывущего молодого оленя. Когда олени скрывались из глаз, камень оставался — темным облаком клубился в тумане; черной тенью разрезал линию горизонта при ясном небе; или, расслаиваясь, призрачно брезжил за пеленой дождя.
Однажды Онтери усадил жену Сикку в лодку и поплыл к камню. Саамы, ловившие с берега рыбу, глядели лодке вслед и посмеивались. Сикка крикнула Маарет с кормы, чтобы чужой не смел, как все, глядеть и посмеиваться. Он и не посмеивался, потому что ничего не понимал. Маарет расхохоталась и крикнула сестре, чтобы та разбиралась с собственным мужем и не указывала чужим. Как только лодка отплыла от берега так далеко, что скверные крики Сикки слились с криками озерных птиц, Маарет, вдруг погрустнев, объяснила: если сварливая жена саама слишком уж вздорит, саам должен отвезти ее на камень и оставить там без еды на двое или трое южных суток.
Сикка вернулась с камня добрая и гордая. Онтери ввел ее в свой кота, и вскоре над ним поднялся жирный дым. Дым низко стелился над тундрой, и тундра пахла мясом.
Другие два с половиной года — три полярные ночи и два дня — были счастливы обыкновенно, и оттого не запомнились ничем или почти ничем, кроме извлечения крови из рогов молодых оленей для приготовления кровяной колбасы, а на третий день, вскоре после рассвета, когда тундра еще цвела и оленям на водопое приходилось ломать мордами лед, появился Муравейников — кажется, так звали этого человека. Был он стар, сух, крив, узловат и вынослив, как арктическое деревце; имел на удивление крепкие бурые зубы и неуютную привычку выстукивать ими в раздумье или при разговоре нервную дробь. Пришел он, если не врал, из Мурманска и не по Туломе через Нотозеро, не через Ивало, что в сердце Лапландии, а с севера, дальним путем, через Петсамо и Киркинес. Из его путаных и трудно воспринимаемых сквозь мелкий зубовный перестук рассказов иногда выходило, что он бежал от большевиков, порой угадывалось, что он был послан ими за чем-то важным, — скорее же всего Муравейников хотел разжиться золотом и озерным жемчугом: слишком уж упоенно и завистливо, едва ли не кроша друг о дружку передние зубы, говорил он о случившейся в девятьсот шестом году последней золотой и жемчужной лихорадке.
В те баснословные времена и вплоть до времен известных Муравейников собирал подати в российскую казну.
— Маарет! — подмигнул он Маарет, попивая оленье молоко, — помнишь ли ты, как с вас собирали подати?
Маарет помнила.
Сборщики податей приходили то из России, то из Швеции, то из Норвегии, то отовсюду сразу, и саамы с ними не спорили, даже не пытались уточнить с ними свою государственную принадлежность — просто сворачивали свои кота и целыми деревнями скрывались в лесах, в горах или на восточных болотах. Сборщики податей научились их и там находить, преследуя их по тропам, протоптанным ими во мху и в палой лесной хвое. Саамы, подумав, стали уходить поодиночке, кто куда и никогда — след в след. Тропы заросли мхом и морошкой, сборщики податей, должно быть, подивились лапландской смекалке, а потом и вовсе перестали наведываться в тундру: наверное, что-то случилось в их тесном мире…
— Как, то есть, что? — удивился Муравейников, и его безбровые бугры над глазами заходили ходуном. — Известно, что случается, когда жрать хочется, воевать хочется, а казна пуста, и никто не платит податей, — русская революция!.. Вы, однако, своего добились, — сказал он Маарет, доедая копченого лосося. — Теперь вы сами по себе, вместе со всем своим бывшим княжеством Финляндским.
Муравейников пробыл у них недолго, съел много, порассказал немало, и чем азартнее стучали в пылу рассказов его несокрушимые зубы, тем мрачнее поглядывала на него Маарет, не забывая, однако, подкладывать ему то вареной рыбки, то вяленой оленины, то морошки, то кровяной колбасы.
Маарет было отчего мрачнеть. Ее русский мужик опять разучился спать, но теперь он не ходит за оленями.
Когда она спит, он, лежа на спине ногами к очагу, глядит воспаленными глазами на остывающие угли и силится увидеть в их мерцании факелы белого ледового похода, костры красного железного потока, — он, оказывается, и знать не знал, о чем было известно всякой саамке: в его отсутствие над его Россией пронеслась и утихла небывалая буря!.. Большевики, каковых он, отличая их от российских робеспьеров из партии с.-р., считал обыкновенными хулиганами, с которыми кто-нибудь обязательно разберется после того, как кто-нибудь обязательно дожмет немцев и австрийцев на фронте, все эти яшки лелеевы, которые, казалось, только и умеют, что вешать кошек, дурить солдатам головы и дарить гимназисток триппером, — за три года сами всех дожали, со всеми разобрались, застегнулись на все пуговицы, освоили строевой шаг, объявили всеобщую грамотность без ненавистных им с гимназии ятей и еров, пустили всюду электричество, поют задумчивые песни и, похоже, собираются в кругосветное путешествие на тысячах аэропланов и воздушных шаров…
— Вам не спится? — шепотом удивлялся Муравейников из глубины кота. — Это довольно странно. Вы — молодой человек, вокруг рай, свежий воздух, еда, никаких нервических забот и опасностей никаких…
— В том-то и ужас…
— Не хотите ли вы сказать, что вам, извините, стыдно? Без вас, извините, все решилось, и без вас, извините, все наново устраивается?
Ответа Муравейников так и не услышал и некстати полюбопытствовал:
— Помните ли вы ваш балл по Закону Божьему?
— Посредственно, — последовал гордый ответ.
— Жаль… Знали бы вы, за что Господь изгнал человеков из Рая, вам бы сейчас, право слово, отлично спалось…
— За грехопадение, разумеется.
— Мда, разумеется… Но если вы это разумеете в известном, то есть любовном смысле, — эту известную глупость для своих надобностей попы выдумали. Господь-то своим чадушкам все-все-все позволил: и покой, и негу, и еду на свежем воздухе, и, разумеется, все в известном смысле — всякую радость, без опасностей и без забот. Он не позволил им только самим пытаться отличить добро от зла, самим за него решать, что есть хорошо, а что есть плохо… Чадушки ослушались, и что вышло? Ева знает на свой манер, что такое плохо. Я, Адам, знаю на свой манер, что такое плохо… А вдруг она на свой манер подумает обо мне плохо? Я же перед ней как голенький!.. И Ева, дура, туда же: вдруг я чем-нибудь не такая, вдруг Адам подумает обо мне плохо? Я же перед ним как голенькая!.. И вот уже чуть что — и Еве стыдно перед Адамом, Адаму стыдно перед Евой… Им бы Бога бояться, как было велено! Он один знает, где добро, где зло!.. Стыдиться — это значит бояться не Его, а людского мнения. Не об Его благословении заботиться, а об людском помиловании. Это значит отпасть от Бога или, хорошо, пусть от Истины, если уж это посредственное слово вам больше нравится… Отпасть и лишиться счастья, отравить стыдом и сомнением даже покой, даже свежий воздух, даже еду, не говоря уже о том известном, что эти обновленцы всех времен то считают, то не считают грехопадением!
Услышав робкое возражение: «Мы с Маарет ничуть не стыдимся друг друга», Муравейников рассвирепел:
— При чем тут ваша саамка! Вы меня не поняли, сколько ни тужились! У вас тут, я погляжу, мозги окончательно заплыли оленьим жиром!
Когда Муравейников, стуча зубами, ушел на юго-запад, Маарет открыла свою кнису и проверила, все ли цело. Нитка доставшегося от матери озерного жемчуга и ее же овальное зеркальце, роговая трубка отца, сгоревшего от водки в годы золотой лихорадки, две серебряные монеты с профилем английской королевы Виктории, подаренные большегубым веселым Аслаком, умершим на строительстве мурманской железной дороги, куда он, бедняга, отправился в четырнадцатом году, надеясь заработать на свадьбу с Маарет, — все было на месте, но Маарет не могла успокоиться: тот, кто сумел навсегда прогнать тень ее бедного Аслака из ее кота, никак не находил себе места и сам стал похож на тень. Ходит, шатаясь на ветру, кругами по тундре, не спит совсем и вместо благодарности за нетронутый ужин выборматывает ей вялыми, прозрачными губами всякие глупости, вроде:
— …С ума сойти: Маннергейм! Кто бы мог подумать!.. Вы тут, пока я тут с вами просто жил и ничего не знал, знали, небось, что барон урезонил ваших финских лелеевых и правит теперь всеми финнами… Знали и лопотали, небось, обо всем этом меж собой, а мне — ни слова! Меня это, по-вашему, не касается!.. А я, между прочим, отлично знал барона и видел его каждый день, как вижу тебя сейчас. Я служил при его варшавском штабе. Я тогда кое-что смыслил в картах, а барон, скажу я тебе, как никто другой умел оценить хорошую карту. Потому и сумел получить генерал-лейтенанта в девятьсот пятнадцатом году… Потому что он, Маарет, был не просто тупой кавалергард. Он, Маарет, был великий русский путешественник. А теперь он, выходит, ваш правитель… Барон Маннергейм, Маарет, это вам не какой-нибудь Муравейников: от него не спрячешься в болоте; захочет с вас собрать подати — соберет, не извольте беспокоиться… Но и не бойся. Человек он хороший, наш человек, пускай и барон. Например, он любит выпить без чипов. Ты, Маарет, и не догадываешься, а я уже и забыл, что такое хорошо выпить с хорошим человеком…