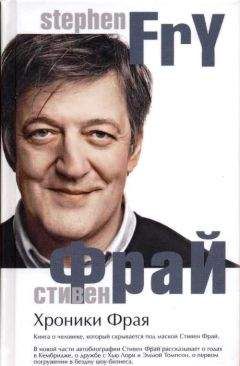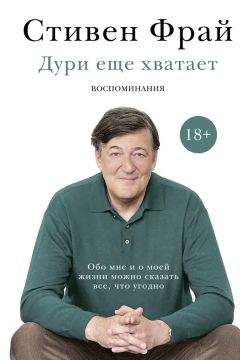— Хоть бы в один и тот же день, — прошептала Морин.
Она придвинулась к Гарольду и вскинула руки.
— Ах, Mo! — тихо вскрикнул он.
Она крепко обняла мужа, дожидаясь, пока утихнет печаль, прижимая его к себе, такого долговязого, оцепенелого — и бесконечно родного.
— Ты мой дорогой…
Она губами отыскала его лицо и расцеловала в мокрые соленые щеки.
— Ты взял и сделал такое… И если твоя попытка найти выход, когда ты сам не был уверен, что дойдешь, — если это само по себе не маленькое чудо, тогда я не знаю, как еще это назвать…
Губы не слушались ее. Она заключила лицо Гарольда в свои ладони — оно стало близким настолько, что его черты расплылись под ее взглядом, и она могла рассмотреть только свое чувство к нему.
— Я люблю тебя, Гарольд Фрай, — шепнула она ему. — Вот чего ты добился…
Куини всмотрелась в затуманенный мир перед нею и обнаружила в нем нечто непривычное, чего не было раньше. Она прищурилась одним глазом, стараясь придать зрению резкость — в воздухе висело что-то розовое, светящееся. Оно крутилось туда-сюда, отражаясь от стен мириадами цветовых бликов. Зрелище было очень красивым, но долго наблюдать за ним показалось ей утомительно, и Куини скоро отвлеклась.
Она была близка к небытию; миг — и ее не станет.
Кто-то приходил к ней, потом снова ушел… Какой-то хороший человек. Не из сиделок, хотя все они тоже очень добрые. И не отец — кто-то другой, но такой же сердечный. Он что-то говорил о походе, и вправду — теперь она вспомнила, — он пришел к ней пешком. Но ей не удалось припомнить, откуда именно. Может быть, просто с автостоянки… В голове у нее гнездилась боль, и Куини хотелось попросить воды; да, она позовет кого-нибудь, сейчас-сейчас, но пока можно просто полежать, вот так, тихонечко, побыть в покое… И поспать.
Гарольд Фрай… Теперь она вспомнила. Он приходил попрощаться.
Когда-то ее звали Куини Хеннесси; она была счетоводом и писала безукоризненным почерком. Она не раз влюблялась, а потом теряла любовь, как это всегда и бывает. Она слегка потеребила жизнь, немного поиграла ею, но жизнь — верткая шельма, и настал момент, когда надо закрыть за собой дверь и уйти, оставив все позади. Жутковато было думать об этом в последние годы… А теперь? Уже не так страшно. Совсем не страшно. Она так устала… Куини прижалась лицом к подушке, чувствуя, что в тяжелеющей голове распускается что-то подобно цветку.
Ей вдруг явилось давно позабытое воспоминание. Оно подступило совсем близко, дохнув на нее своим ароматом. Куини увидела себя в доме своего детства; в красных кожаных туфельках она бежит вниз по лестнице, а отец окликает ее — или это тот добрый человек, Гарольд Фрай? Она торопится, смеясь на бегу, ей очень весело. «Куини! — выкрикивает он. — Ты там?» Она видит его высокий силуэт против света, а он все зовет и озирается, ища ее взглядом где угодно, но только не там, где она есть на самом деле. У нее перехватило в горле. «Куини!» Ей уже хочется, чтобы он поскорее отыскал ее. «Ты где? Где же эта девочка? Ты готова?»
«Да», — отвечает Куини. Свет бьет ей прямо в глаза; даже за прикрытыми веками ощущается, какой он серебристый. «Да! — откликается она уже громче, чтобы он наконец услышал. — Вот она я!» У окна что-то качнулось, осыпая палату потоком бликов.
Она приоткрыла рот, чтобы вдохнуть поглубже, но воздух исчез. Вместо него в Куини проникло нечто иное, легчайшее, как само дыхание.
32. Гарольд, Морин и Куини
Морин восприняла новость довольно спокойно. В гостинице у побережья она сняла двухместный номер. Вначале они вдвоем немного перекусили, а потом она наполнила для Гарольда ванну и вымыла ему голову. Затем Морин аккуратно сбрила мужу остатки бороды и увлажнила его кожу кремом. Подстригая Гарольду ногти и отскребая с его ног мозоли, она призналась ему во всех неблаговидных поступках из прошлого, в которых горько раскаивалась. А он рассказал ей о своих. У него, судя по всему, начиналась простуда.
После звонка из хосписа Морин взяла Гарольда за руку и слово в слово передала ему то, что сказала сестра Филомена: Куини перед кончиной выглядела умиротворенной. Точно спящий ребенок. Одной из монахинь почудилось, будто перед смертью Куини звала кого-то и тянулась к нему, вероятно, к очень близкому человеку. «Но сестра Люси еще молода», — тут же обмолвилась сестра Филомена.
Морин спросила Гарольда, хочет ли он побыть один, но он покачал головой.
— Сходим к ней вместе, — предложила она.
Тело уже перенесли в зал, примыкавший к часовне. Они шли вслед за молодой монахиней и молчали, потому что слова в такой момент все равно вышли бы натужными и надломленными. До Морин долетали обычные звуки хосписа: приглушенные голоса, переливы смеха, журчание воды в трубах. На мгновение снаружи донеслись птичьи трели — или звуки хорала? Ей казалось, что она попала в святая святых некоего незнакомого мира. У закрытой двери они остановились, и Морин снова спросила, хочет ли Гарольд остаться один. Он опять покачал головой.
— Я боюсь, — признался он, заглядывая своими голубыми глазами ей в лицо.
В них смешались паника, тоска и отвращение. И внезапно до нее дошло: Гарольд видел Дэвида мертвым в сарае и не хотел повторения.
— Понимаю… Но ничего, я здесь, с тобой. На этот раз, Гарольд, все пройдет как надо.
— Она упокоилась с миром, — доверительно сообщила им монахиня, пухленькая девушка с ярким румянцем во всю щеку.
Морин порадовало, что такая юная и энергичная особа полна жизни, несмотря на то, что заботится об умирающих.
— Перед кончиной она успела улыбнуться. Как будто познала что-то такое…
Морин взглянула на Гарольда — он был бледен, как полотно, словно полностью обескровленный.
— Я рада за нее, — сказала Морин. — Мы рады, что она обрела покой.
Монашка уже собралась уходить, но вдруг вспомнила что-то и обернулась.
— Сестра Филомена спрашивала, не хотите ли вы прийти к вечерне?
Морин вежливо улыбнулась. Поздновато уже обращаться к вере.
— Спасибо за приглашение, но Гарольд очень устал. Мне кажется, сейчас ему прежде всего нужен покой.
Монахиня невозмутимо кивнула.
— Разумеется. Просто на всякий случай знайте, что мы вам всегда рады.
Она повернула ручку и открыла им дверь в зал.
Едва войдя внутрь, Морин узнала этот особый запах ледяной неподвижности, смешанный с густым ароматом ладана. Под скромным деревянным крестом покоились останки, некогда бывшие Куини Хеннесси. Ее аккуратно расчесанные волосы лежали вокруг головы на подушке, руки были вытянуты вдоль тела, а открытые ладони развернуты вверх, как будто Куини с радостью выпустила из них что-то. Ее голову заботливые монахини слегка повернули набок, и опухоль была почти не видна. Морин с Гарольдом стояли подле Куини и молчали, вновь поражаясь тому, как бесповоротно уходит из человека жизнь.
Морин вспомнила Дэвида и то, как много лет назад приподнимала в гробу его недвижную голову и целовала без конца, не в силах поверить, что одного ее желания вернуть сына недостаточно, чтобы он ожил. Гарольд стоял рядом с ней, сжав изо всех сил кулаки.
— Она была хорошим человеком, — сказала Морин. — И настоящим другом.
Кончики ее пальцев ощутили близкое тепло — Гарольд крепко стиснул ее руку.
— Ты не мог ничего поделать, — добавила она, думая в этот момент не только о Куини, но и о Дэвиде.
Да, его поступок разделил их, бросил в беспросветность отчуждения, но, в конце концов, Дэвид добился того, к чему стремился.
— Я была неправа. Я не имела права обвинять тебя.
И она еще крепче сжала его руку.
В щели над и под дверью пробивался свет, и звуки хосписа наполняли пустоту зала, точно вода ручья. В зале смерклось, и все вокруг стало смутным; Куини тоже погрузилась в полутьму. Морин снова вспомнились волны и мысль о том, что жизнь без своего завершения будет неполной. Она решила стоять рядом с Гарольдом столько, сколько ему будет нужно. Наконец он повернулся к выходу, Морин последовала за ним.
Они закрыли за собой дверь, а в часовне уже давно служили мессу. Оба постояли в нерешительности, не зная, поблагодарить ли монахинь или незаметно уйти. Гарольд вдруг на минуту замешкался. Голоса певчих возвысились, сливаясь воедино, и от величественности и праздничной красоты момента у Морин перехватило в горле. «Если мы не можем распахнуть свое сердце, — подумала она, — и принять то, что выше нашего понимания, тогда нам и вправду не на что уповать».
— Ну вот, теперь я готов, — сказал Гарольд.
Они вдвоем прогуливались в темноте по набережной. Любители пикников уже ушли, забрав с собой складные стульчики; на пляже встречались лишь редкие собачники и бегуны трусцой в флуоресцирующих куртках. Гарольд и Морин говорили о всяких пустяках: об отцветающих пионах, о первом школьном дне Дэвида, о прогнозе погоды. О пустяках… Луна сияла в вышине, и ее дрожащий двойник отражался на водной глади. Вдалеке, мерцая огнями, неторопливо шел корабль, двигаясь вперед почти незаметно. На нем кипела жизнь, разворачивалась деятельность, не имеющая к Гарольду и Морин никакого отношения.