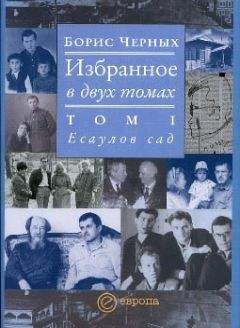11 февраля. В кладовке на гвозде отыскал старые выкройки, мама ворчит, газетная бумага еле держится. Я читаю то, что было до меня, многое не так, как в учебнике. Спросить некого, мать усмехается – мало ли что написано у вас в книгах. Она часто усмехается, но молчит. Надо б записать кое-чего, но по выкройкам не угадаешь – обрезано ножницами в самом интересном месте. В читалке старых газет нет.
25 марта. Снова много читаю – Пушкин весь, снова весь Лермонтов. Лермонтов уже не убивает меня печалью, как было раньше.
26 марта. Поссорился со Светланой, она ребенок, а пытается выглядеть старше. Заработал двояк по физике. Кончится ли проклятый год? Эллеонора была бы на седьмом небе, а я на восьмом. А Клавдия…
15 апреля. Улица превращается в переулок – тесная слякоть и боль в груди, воздух плотен, не слышно гула поездов, ползущих по железнодорожному пути. С крыш течет, сырость кругом. Снег порошит, хлопья тают… Но приходит в большой наш дом девушка по имени Таня. Она приносит маме заказ – платье ситцевое в оборках. И говорит: «Я люблю вас, Борька, но разве вы поймете нас». Я провожаю ее за порог. Грязно, слякоть. Не знаю, не знаю, какой мне прок вослед ей плакать.
Лиля молчит. Навсегда замолчала Рита.
21 апреля. Старые выкройки. Опровержение ТАСС о том, что в наших лагерях много людей. Вернулся муж Зины Искуловой, весь злой, его, оказывается, посадили за то, что он рассказал анекдот.
22 апреля. Нам читали письмо ЦК. Директриса сказала: поймут, не дети. Райка Гридина сидела, поджав губы, а Валентина вела себя будто ничего страшного.
23 апреля. Это все отрыжки, и больше так никогда не будет, никогда. Отец Юрки Вернигоры выступал в реммастерских, Костя Базанов позвал меня. Но Юркин отец ничего не сказал. Ему слесарь какой-то задал вопрос о Сталине, Вернигора ответил, что у Сталина были не только заслуги. И надо работать, засучив рукава, чтобы было еще лучше.
Мама молчит.
22мая. Фадеев кончил самоубийством. Валентина сказала: заболел и кончил. Я хотел сказать, что мой отец тоже болел, но он не кончил самоубийством. Валентина: «Вместо того, чтобы задавать такие вопросы, лучше бы к экзаменам готовились».
4 июня. Нет, человек я ненадежный. Бродил со Светланой по улицам и по железнодорожному парку, но вдруг свалилась на мою беду Женя Осипенко. Мы и раньше догадывались о чем-то, а тут я пришел к ней домой за книгами, и мы обнялись и так простояли час, Женя заплакала.
Сегодня был у Светланы, она все так же нравится мне.
10 июня. Юрку Вернигору ведут на медаль, прямо на наших глазах, но он, кажется, не сильно счастлив.
18 июня. Толя Фатеев помогал мне писать шпоры по физике, но в десять вечера мы пересчитали наши рубли и смылись в ресторан на вокзале, нам принесли по сто граммов водки. Тут с бригадой грузчиков заявился Генка Антончев, мой кумир, и поставил нам еще по стакану. С непривычки мы опьянели, утром я кое-как приплелся на экзамен. Эллеоноре я боялся смотреть в глаза, она милая, Эллеонора, болеет за нас.
Книжка вторая. Студенческие годы
1956 год
16 ноября. Живу на Некрасова, 17, вместе с Симоновым из нашей школы, он поступил в горный институт. Еще Венка Гончаров. Гена Мурзин, с химфака университета. Мурзин нравится – стихийная душа, а мои амурцы практичные, уже сейчас дрожат, сдадут ли сессию. Иркутск – совсем чужой город. Утицы чужие, и чужие люди. Ангара – холодная, с пустыми берегами. Юридический факультет в корпусе, где всем вместе тесно. Хожу на лекции, ожидаю незаурядного, а – скукота.
20 ноября. Зачем приезжала ко мне мать? Чтобы убедиться, что ее дитя делает шаг к светлому будущему? – Я привел маму к нашему корпусу и показал на ступени: вот здесь, мама, я сильно тосковал по дому, надо идти на экзамен, а я тоскую по Свободному. – Теперь ты знаешь, как я тоскую по Албазину, состарилась, а все тоскую.
Мы медленно ходили по Иркутску, мама предложила найти Никитиных, их тоже растрясли в тридцатом году, они бежали в Иркутск. Живут на Тимирязева в тесной квартире, у них так неуютно, что я попросил маму свернуть разговор на потом. Мы откланиваемся, тетя Татьяна говорит: «Прокурором будешь? Мало чужие мучили нас, теперь и свои прокуроры будут». Я отвечаю: нет, я никогда не буду прокурором. Кем же ты будешь? Я буду следователем по особо важным делам. Тетка Татьяна улыбнулась: «К важным делам тебя не пустят». Почему? «А за тобой ниточка тянется»… Мы уходим. Мать говорит: Герку из штаба уволили, раскопали, что отец был в ссылке. Так всегда – мне или не говорят правды, или говорят поздно. Гера работала в штабе Амурской военной флотилии машинисткой и вдруг ушла с работы. Сейчас, два года спустя, я узнаю, почему ушла. Мать говорит: ты в самом деле будешь следователем? И отвечает сама: ну да кем же, как не следователем. Мама, я никогда не буду казнить людей.
Это я знаю, отвечает мать и внезапно плачет прямо на улиц. Говорит: отец умирал и попросил меня на руки, я был голенький, а руки у отца холодные, я помочился на него, отец был счастлив. Ночью отец умер.
20 декабря. Пацан соседский таскает в макулатуру книги. Мы сидим у окон, я читаю стихи неизвестного Блока, Генка Симонов долбит гранит свой. Я вижу: пацан, озираясь, тащит кипу книг. Я вылезаю в окно и иду на перехват. Даю ему рубль и получаю Ренана «Жизнь Иисуса» и альбом с голыми красавицами девятого года издания. Альбом отдаю парням. Венка Гончаров сразу выбирает брюнетку, с которой бы он… Мурзин молчит. Симонов выбирает светлую с атласными бедрами и рыжим пахом. Я медленно перелистываю неизвестного Ренана.
23 декабря. Блок не потрясает, но завораживает. Пробую вслух. Венка говорит: декадент. Мурзин молчит. Ренан потрясает: безоглядно верю, что Христос ходил по нашей земле. Но об этом парням я не говорю, будут смеяться. Пацан снова тащит книги, я выкупаю альбом с фотографиями старой Сибири и прячу в чемодан. В чемодане два тома Лермонтова, подаренного Валей Кузнецовой три года назад. Она изредка пишет, они все в Томске: Юрка, Лой, Галя Горбылева, все гордые своим политехническим. Валины письма не греют меня, она никогда меня не любила.
1957 год
5 января. Пацан приносит рукописную пьесу Константины Чернякова «Верховный правитель» – о Колчаке. Черняков бывший владелец этого дома, его, говорят, растрясли. Он всю жизнь преподавал в Хаминовской гимназии. Колчак на ходулях, но, видно, Черняков болеет за него, особенно, когда чехи предают его. Не Христос, но насквозь положительный герой. Это интересно и ново. Но парням я не говорю об этом, будут дурно шутить.
10 января. Сессия. Читаю Адалис в старой Литгазете: «Но то вредное и ханжеское требование благополучия, что вредило, в частности, и любовным стихам, нанесло стократный вред и большим поэмам и стихам на темы гражданственные, и „поэзии природы“, так обидно у нас захиревшей, но искони милой русскому читателю, и подлинной – не риторической-политической лирике, составляющей нашу гордость и нашу заботу!… Парикмахерское „Вас не беспокоит?“ нанесло большой ущерб, ибо свойство и принцип поэзии – беспокоить. Слишком скромен упрек критикам, обижавшим лирику интимных чувств; поэзия глубоких тем и обобщений потерпела куда больше, – потерпел поэт в пушкинском понимании профессии, в понимании певца природы и человечности, мыслителя, судьи».
18 февраля. Родина. Встреча с одноклассниками. Почему я такой сентиментальный? Они смеются, а я, будто уже прощаясь, грущу, хотя и смеюсь. Внезапно вижу в окне «Фотографии» печальное лицо Жени Осипенко, останавливаюсь, она не выходит. Я прикованно стою, не поднимаюсь на крыльцо. Окно замерзшее – и только ее лицо. Мы молча смотрим друг на друга, я ухожу растерзанный…
Что ты запомнил на первых экзаменах? Отвечаю: Гена Мурзин просил разбудить его в восемь утра, пойдет сдавать первым, мы всю ночь пьем горячий чай и долбим, а Мурзин спит. Это злит нас. В пять утра я бужу его: пора. Он спокойно одевается, берет зачетку, уходит. Все молчат. Через час он возвращается и ничком ложится на кровать. Мне ужасно стыдно своей дурной шутки. В восемь все так же темно, пора поднять Мурзина, я это сделать не в силах. Симонов трогает его за плечо. Я не сплю, отвечает Мурзин, снова встает и уходит. Мы все сдали на четверки. Вечером Мурзин говорит: «Так шутить, Боря, нельзя», – и все.
25 февраля. На каникулах в гостях у Гены Ищенко, одноклассника. Большерукий отец его спрашивает, как это я надумал идти на юридический факультет. Я отвечаю дежурное. Отец долго молчит, потом говорит, вздохнув: «Презренная профессия, парень, презренная». Я говорю, Ленин кончил юридический. «Так то когда было, парень?» – с тем и живу теперь.
28марта. Боря Задерей, историк, сказал – события в Венгрии были неспроста. Боря тренерует нашу секцию по волейболу, технарь похлеще моих тонкостей, и с ударом, играет за сборную университета.