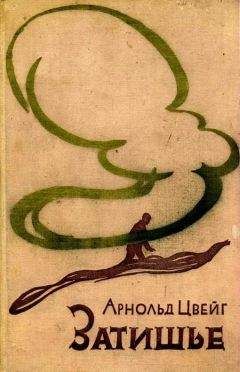— Отныне, значит, обер-лейтенант Винфрид причислен к представителям рода человеческого! — смеясь, крикнул вслед уходящему Гройлиху фельдфебель Понт. — А почему, в сущности, вы называете этого Ленина юнкером?
— По аналогии с «Фаустом», — ответил Гройлих с первой ступеньки лестницы, которая вела в подвал. — А кроме того, его отец из служилого дворянства.
Во второй половине дня той же пятницы обер-лейтенант Винфрид, зажав в углу рта сигарету, ходил из конца в конец по своей комнате, останавливался у окна, прислушивался к тому, что делается снаружи, за двойными рамами, где часовой бесшумно шагал по снегу мимо ворот парка. У обер-лейтенанта узкогубое худое лицо. Повару офицерского собрания обидно, что лейтенант так худ; ему хотелось бы, чтобы обеды и ужины, которые он ежедневно посылает молодому господину, шли ему впрок. Несколько недель назад комендатура по приказу свыше расстреляла русского сержанта Гришу Папроткина, за спасение которого боролись престарелый генерал и его племянник. Потому-то господину адъютанту кусок в рот не идет, думает унтер-офицер Ленце. Но со временем это сгладится. Молодость забывчива; надо только хорошенько кормить молодого адъютанта.
Винфрид отходит от окна. Воробьи на деревьях не занимают его, иволги и зяблики тоже; сейчас он выпьет рюмку коньяку и возьмется за книгу, которую давно уже взял у Познанского, но до сих пор не удосужился раскрыть. Книга называется «Война и мир», написана она чуть не полвека назад графом Львом Толстым, который неплохо знал жизнь, во всяком случае, достаточно, чтобы превосходно изображать ее. Но, когда около четырех часов молодой человек, удобно усевшись и придвинув к себе настольную лампу, раскрыл книгу, он обнаружил, что Познанский напутал и принес ему вместо первого тома второй. Досадно, но Познанский живет не на краю света. Он, лейтенант Винфрид, направит к нему вестового и попросит дать начало романа. Впрочем, лучше всего, пожалуй, самому пойти к Понту, а тот уж пошлет за книгой кого-нибудь из своих подчиненных. Ибо, во-первых, чем чаще адъютант появляется в комнате фельдфебеля, тем лучше, во-вторых, лазарет переполнен и сестру Берб ни сегодня, ни завтра не увидишь, а вечер как-нибудь скоротать надо же.
Внизу, у фельдфебеля Понта, царит покой благоразумия. Лауренц Понт поедет в отпуск только на рождество. Надо оставить надежного заместителя. Унтер-офицер Шмидт (Шмидт II) будет на месте в этой роли. Для того чтобы мы в последнее мгновение не проиграли войну, Шмидта, разумеется, нужно ознакомить с его будущими функциями, и с этой целью Понт в минуты затишья садится с ним за письменный стол и объясняет многое из того, что Иохену Шмидту уже известно, и кое-что еще неведомое. Адъютант входит, Понт и Шмидт вытягиваются во фронт и приветствуют господина обер-лейтенанта. Через две-три минуты Понг предоставит к его услугам часового.
Не будь здесь белокурого коротко остриженного Иохена Шмидта с его щетинистыми усами, Винфрид и Понт продолжили бы разговор, начатый вчера вечером, когда унтер-офицер Гройлих, Вольдемар Гройлих — кавалер двух орденов Железного Креста, первой и второй степени, — принял по аппарату Морзе строго секретное сообщение. Главнокомандующий германскими военно-морскими силами 20 октября издал наконец приказ прекратить бомбардировку Лондона и других незащищенных пунктов восточной Англии — бомбардировку с цеппелинов, противоречащую всем нормам международного права. Почему? Об этом в сообщении не говорилось. Но в политическом отделе «Обер-Ост» давно знали из скандинавских газет, что все большее и большее число этих злополучных воздушных гигантов, по форме напоминающих сигару в блестящем серебряном футляре, становилось жертвой английской противовоздушной обороны; летая медленно, со скоростью не больше восьмидесяти километров в час, они являлись настоящим кладом для прожекторов.
Фельдфебель Понт еще до войны был страстным поклонником аэронавтики. Попытка человека наперекор силе притяжения покорить воздушную стихию, точно так же как он научился покорять водную, пользуясь открытой в средние века китайцами магнитной стрелкой, которая была затем освоена Европой, приводила его в восхищение. Винфрид, гораздо больший поклонник авиации, определявший последнюю стадию ее развития как «стадию кокона», он, этот молодой офицер, любитель необычайных приключений, вчера вечером доказывал, что воздушные шары не имеют будущего и толку от них никакого не будет. Продолжить этот разговор было бы очень интересно. Но разве это возможно в присутствии такого представителя низшего состава армии, как Иохен Шмидт, один из тех унтеров, которые унтерами рождаются и которых возмущает уже самая мысль, что солдат, обязанный повиноваться, может критиковать существующий строй или даже отдельные его стороны?
И Винфрид решил нынче вечером ни с кем не делиться новостью, которую он узнал от Познанского. А узнал он, что подлинный изобретатель неповоротливого воздушного корабля — вовсе не швабский граф Цеппелин, а лесоторговец Давид Шварц, уроженец Загреба, и что его наследница Мелания Шварц — отсюда и осведомленность Познанского — вместе с законными наследниками шварцовского акционерного общества борется за присуждение ей плодов этого изобретения и патентов. Познанский рассказал об этом Винфриду еще в ту пору, когда царскую армию обвиняли в отсталости. Упомянутый Давид Шварц был вынужден предложить свое изобретение Петербургу, так как австрийские военные власти, оправдывая афоризм о том, что нет пророка в своем отечестве, в ответ на его предложение лишь пожимали плечами. Тогда Шварц обратился за поддержкой сначала к русским, а затем к пруссакам; спустя несколько лет и те и другие отказались от дорогостоящих экспериментов.
— Скучно, Понт, а? — говорит Винфрид, окидывая взглядом пустующую канцелярию фельдфебеля Понта.
— Дел по горло, — отвечает фельдфебель, ибо ему положено так ответить.
Обер-лейтенант Винфрид покровительственно кивает и мерным шагом, заложив руки за спину, возвращается к себе. Он сейчас засядет за письмо к матери. Он пишет ей каждые три-четыре дня, заполняя листочки милой болтовней о делах, которых здесь не бывает, и о своем прекрасном настроении, которого тоже почти не бывает; разве иной раз после обеда оно посетит обер-лейтенанта, когда в дополнение к чашке горячего кофе он зальет за галстук рюмочку коньяку.
Лауренц Понт — человек осмотрительный. Он учитывает, что лишь тот, кто знает толк в книгах, может вручить вестовому требуемый том; ведь даже владелец книги, образованный юрист, член военного суда, — и тот напутал. Он вызывает по телефону канцелярию военного суда, а тем временем протягивает унтер-офицеру Шмидту II ведомости. В них выписано жалованье воинским частям, прикрепленным к штабу; выписано до самого Нового года, чтобы хорошо смазанная машина продолжала работать бесперебойно. С другого конца телефонного провода откликается писарь Бертин. Что угодно господину фельдфебелю? Лауренц Понт объясняет, и Бертин изъявляет готовность лично доставить книгу. Он рад пройтись, переговоры ни сегодня, ни завтра не начнутся. По дороге он заглянет в городскую больницу и осведомится о самочувствии молодой крестьянки, которая, как известно, родила и в которой обер-лейтенант Винфрид и сестра Берб принимают участие. Им тогда не придется справляться по телефону. Он явится через полчаса, не позднее.
Писарь Бертин не любит проходить по коридорам виллы Тамшинского, где из каждой двери может выйти офицер и где надо все время вытягиваться во фронт. Особенно неохотно бывает он на вилле в присутствии его превосходительства. Таким уж мать его родила, как говорят солдаты. По молчаливому уговору он до сих пор никогда не посещал обер-лейтенанта Винфрида, да Винфрид его и не приглашал — приличия ради. Но сегодня, в этот уютный предвечерний час, писарь Бертин отогревается с мороза в комнате адъютанта, у огромной голубой кафельной печи, и курит сигару, часто кладя ее на пепельницу. Он рассказывает о том, что узнал в больнице.
Роженица выздоравливает, ребенок лежит рядом с ней в корзине, у него очень выразительное, крестьянское личико. Мать кормит сама. Девчоночку она вырастит, как-нибудь да перебьется с ней в это тяжелое время. Уже сейчас, когда крохотное существо чмокает, лежа у ее груди, мать стыдливо, нехотя, но широко улыбается, и лицо ее утрачивает свою обычную замкнутость.
В комнату под каким-то служебным предлогом входит фельдфебель Понт. Он тоже садится на кожаный диван, где обычно дремлет его превосходительство, и набивает табаком трубку. Завязывается разговор о мире.
Сегодня Бертин раздражает своих собеседников: он не верит в мир. На Востоке война, конечно, не возобновится, но он не может себе представить мира между столь различными явлениями, как раскаленный утюг и дикобраз. Предстоят невиданные и захватывающие события.