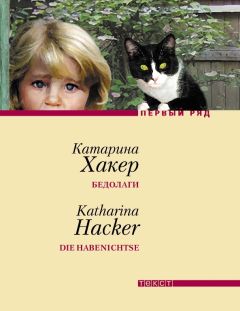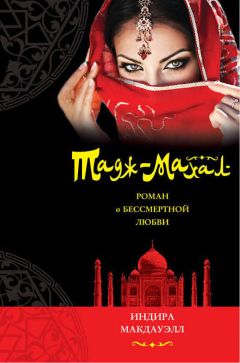— Тошнит от вас. — Петер, вставая, чуть не опрокинул стул. — Один строит из себя психа, а у другой нету дел, кроме шопинга.
Только когда дверь за ним захлопнулась, Изабель открыла рот:
— Что с вами такое?
Андраш, молча разглядывая новые туфли, взял у нее из рук пакет, вытащил одну за другой кроссовки, поставил к себе на письменный стол и стал осторожно водить пальцем по шнуркам, язычку, заднику.
— Андраш, прекрати!
Как тихо, здесь тоже тихо. Электричка, рывками подъехав к станции, замерла. Андраш вдруг вскочил, закрутился на месте, повернулся раз, два, три и уселся прямо на стол. Электричка тронулась, набрала скорость, исчезла из виду, так и не попав в поле зрения Изабель, а на ее место уже прибыла следующая, тихо постояла, прокатилась вперед на несколько метров, опять остановилась, и за окнами вагона появились лица людей, будто они видны не сквозь оконное стекло, а через линзу, с увеличением и искажением.
Какая ты бледная, — пробормотал Андраш и, чуть помедлив, отправился в коридорчик, он же кухня: там и посуда, и баночки с медом, чайные пакетики, кофеварка, компактный кухонный шкафчик — тяжелый, как несгораемый шкаф, газовый баллон под раковиной, две горелки. Включил чайник, поставил на поднос чашку, сахарницу, молочник, забыв его наполнить, подождал, пока закипит вода, заварил чай.
Раньше в дальней комнате работали Ханна и Изабель, а в ближней они, двое мужчин. После смерти Ханны Андраш перебрался к Изабель, натянул проволоку по стене, развешивал свои и ее эскизы. В дальней комнате зеленый линолеум, в ближней — красный, а коридорчик в синих тонах. Стол Изабель в правом углу между двумя окнами, за ними проходят электрички и поезда. Рядом с компьютером — экран как будто парит над землей, в пестрых мисочках ластики, точилки, пузырьки с цветной тушью, в стеклянных стаканах карандаши и перья. Андраш уговорил Изабель снова рисовать, даже писать акварели, как в школе, и она привыкла так работать, иногда дни напролет готовила эскизы — уличные сценки, интерьеры, серии "картинок, и только под самый конец бралась собственно за работу. «Видишь, получается! — победно заявила она Петеру. — Никакая не потеря времени, даже наоборот». Она любила свое бюро. New concept — new life, новая идея — новая жизнь, вот что это значило, по крайней мере для нее, когда она приехала в Берлин, по квартирному объявлению познакомилась с Алексой, а через Алексу с Ханной. Всем она обязана Алексе, вот и цеплялась за нее, пока та не переехала к Кларе и не вынудила Изабель заняться поисками новой квартиры.
Андраш отставил поднос, вернулся в коридорчик, прихватил печенье и банку с медом, сел. Вчера в это самое время Изабель размышляла, не надо ли помочь Гинке готовить, и с двойственным чувством ожидала вечера, суматохи и выпивки, непременных на вечеринках, которыми Гинка так гордилась. Та не скрывала, что предпочитает звать в гости одиночек, и даже десять супружеских пар накануне золотой свадьбы не помешали бы ей считать всех гостей холостыми и незамужними. В первые же минуты она умела разделить пару каким-нибудь колким словцом, или комплиментом, или насмешливо-снисходительным замечанием, обладая безупречным инстинктом в поисках той точки, когда и любящие друг друга люди готовы разойтись, и умея пробудить в каждом желание найти более приятное и волнующее общество хотя бы на этот вечер. На нее бы обижались, однако подобная тактика приносила результат: не проходило и получаса, как устойчивые связи распадались и каждый старался явить обществу весь свой шарм, всю свою завлекательность, чтобы в этой круговерти кого-нибудь да привлечь, понимая, что иначе окажется поглощен тьмой, сгущавшейся в комнате, полной смеха и гула. Прощаясь с кем-либо, Гинка находила такие слова, что ее гости как по наклонной скатывались вновь к своим бракам и союзам, не без укола недовольства, но с покорной готовностью шагнуть в ночь с тем же, с кем пришли. А настоящих одиночек Гинка пыталась свести, и тут ее инстинкт тоже никогда не подводил, хотя она признавалась Изабель, как непоследовательно с ее стороны разыгрывать из себя сваху, а потом жаловаться, что число холостых идет на убыль. Изабель для нее исключением не была, однако все предложения сменялись угрозами указать Изабель на дверь, если та окажется такой же занудой, как остальные женщины чуть за тридцать, когда они вдруг выходят замуж, рожают детей, да еще и норовят бросить работу.
Андраш положил ей руку на колено:
— Не надо так переживать. В итоге окажется, что погибших меньше, чем они думают.
Голос Андраша, обычно такой приятный и спокойный, звучал глухо, он запустил пальцы в свою густую шевелюру, провел ладонью по широковатому лицу. Изабель следила за его взглядом, не отрывавшимся от новых туфель. Андраша занимал вовсе не Центр международной торговли. Его занимали новые туфли и напряжение, исходившее от Изабель, сигналы, уловленные его приемником, но не распознанные им, не обработанные. Изабель напоминала ему пойманного зверя, который прикинулся спокойным, а сам готовит побег и безразличен ко всему, кроме принятого решения.
— Изабель?..
Она взяла чашку, стала согревать ладони. Андраш не решился спросить про вечеринку у Гинки. Вчера Изабель поехала в Шарлоттенбург прямо из бюро, не заходя домой и не переодевшись, в джинсах, в кроссовках, в майке с коричнево-желтыми кружочками. Андраш давно заметил, что мужчины обычно воспринимали Изабель точно как он, а она держала его за старшего брата, проявляя доверие и некоторую небрежность, а порой стараясь помучить, как мучают тех, в ком не сомневаются. В тысячный раз спросил он себя, отчего бы ему не вернуться в Будапешт, отчего бы не собрать вещички и не свалить бесповоротно прямиком в Будапешт, где зять Ласло готов открыть с ним рекламное и дизайнерское агентство. Долгое время Андраш убеждал себя, что не доверяет энтузиазму Ласло, что мысль о возвращении к родителям, в дом, откуда его, четырнадцатилетнего, отправили к дяде с тетей в Германию, ему непереносима. И сам знал, что притворяется.
— Вчера в это самое время… — Изабель наконец нарушила тишину, но тут же снова умолкла.
Андраш только головой покачал. Должен же кто-то ответить за произошедшее, должен кто-то заплатить за то, что люди теперь — не важно, в Германии или в США, — чувствуют себя так, будто у них отобрали настоящее, сегодняшний день. «Реальность всего мира взорвана, — думал он, — и пока человечество снова успокоится, смирится с былой несправедливостью, для них привычной и приятной…»
— Кто-то заплатит, — произнес он наконец, — но явно не те, кто действительно должен за это ответить.
Изабель смотрела на него со слезами на глазах:
— До чего же страшно им было умирать…
И вдруг представила себе Якоба, вдруг увидела, как он вдет рядом по университетскому двору, как он сидит рядом в аудитории. Якоб избежал гибели. О его гибели она никогда бы не узнала, никогда не вспомнила бы о нем, растворившемся в ее равнодушном забвении и в собственной смерти. Андраш встал, чтобы поискать носовой платок. Какая досада. Вернулся, заботливо вытер ей слезы, отдал платок. Вид у нее был несчастный, несчастный и виноватый, как тогда, когда она наконец поняла, отчего Ханна сбрила волосы, обнажив голову. Но то — лет пять или шесть назад, с тех пор она все-таки повзрослела.
— Приходи вечером, я что-нибудь приготовлю. Гуляш, если захочешь. — Он встал и подошел к окну. По Диркенштрассе шли трое мужчин и две женщины, они заняли всю мостовую, держа друг друга под руки и хохоча во все горло. «Все теперь по-другому», — с горечью подумал Андраш, и так ему стало тревожно на душе, что захотелось выбежать отсюда, на улицу и дальше, до парка Монбижу, до берега Шпре, и все дальше, пока город не останется позади.
Около шести часов небо затянуло, на город с запада двинулись стеной тьма и непогода, поначалу беззвучно, и даже ветер замирал, будто прислушиваясь, как вдруг полил дождь, прорвав тучи и все перекрыв шумом. Андраш стоял у окна, дождь тяжелой парусиной нависал над крышами, внизу слабо мерцали огни, телебашня мучительно пробивалась сквозь черноту, видеореклама на другой стороне Александерплац отбрасывала бледные тени. Вот так и три года назад он, стоя у окна, вдруг понял, что пора уезжать. Смотрел на улицу и размышлял о том, что достаточно небольшого грузовичка для транспортировки в Будапешт его книг, части стеллажей, маленького, но тяжелого комода и красного дивана. Туда, в один из подвалов, постепенно отвоеванных родителями, за решетчатую перегородку, где двери криво висят на петлях, держась на навесных замках, а за дверями стоят пустые ящики для угля, для картошки, для дров и щепы, а еще коробки, набитые гайками и винтиками, гвоздями и веревками — всем тем, что десятилетиями хранили на полках и в ящиках, в тесных квартирах, — кто знает, а вдруг пригодится? Да и сам он тут, в Берлине, собирал все скрепочки, все резиночки, все веревочки, и толстые почтовые конверты, и пустые жестянки, и стеклянные баночки, а раз в два месяца складывал их вместе и ночью выносил на помойку — незаметно, как ему казалось. Наутро он старался не появляться во дворе и не встречаться с соседями на лестничной клетке, пока не приедет мусоровоз. Позже эти акции не приносили ему облегчения, потому что хватало их ненадолго, ведь уже спустя неделю что-нибудь да скопится — картонная ли коробочка, веревка ли без узлов, всё полезные вещи, так уж лучше забыть про благие намерения и наводить порядок два раза в год.