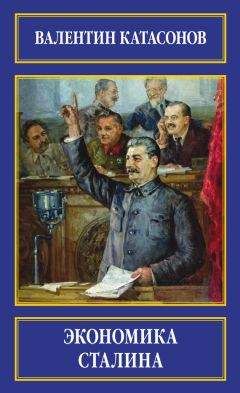Теперь я в Лондоне. Я открываю сезон беспорочного будущего, куда я сбежал по семейной нужде. Здесь в моде — мода, и я разрастаюсь, сравняв большинство с меньшинством, собак и железо в гастрономический ноль желаний. Я сплю на небе, как попало. Меня снимают для молодежных журналов, сначала не верят, зовут палачом венских грез. У меня была подружка из Москвы, прямой переводчик послания, она закончила перевод, я бросил ее — в одиночку жить веселее.
Я родился в Москве от французов. Они не совсем французы. Мама из Рюриков, все благородные, и мама тоже: близорукая, длинная. Папа — хохол. Но по матери он — поляк, они совсем не благородные, дедушка, советский инженер, из Киева ушел с Гитлером. Они сошлись с бабушкой в лагере для перемещенных лиц, по дороге в Париж их задержали в Брюсселе, но дедушка на вокзале обманул солдат. Они жили, как многие другие, в русской церкви на рю Дарю в коридоре, дрожали, что их отдадут назад. Они до сих пор пришибленные, и, когда у нас на верхнем этаже поселился московский музыкант, им не понравилось, хотя их никто не спросил. Папа вырос у меня очень умным, он не любит людей. Кроме моих братьев от первого брака. Они тоже от благородной мамы, из русских княгинь, папу всегда тянуло на благородных. У меня три брата: дьякон в Ницце, который скоро будет попом, другой усовершенствует йогурты в компании «Данон», третий — в банке, он толстый, от детской болезни. Папа тоже меня любил и ругался, что я оболтус, заставлял наизусть учить «Колобок». Я занимался фехтованием и ездил на велосипеде по пересеченной местности с гор. Папа многие годы играл на лютне, надоел всему дому, даже домашние концерты устраивал, а потом остепенился, стал пить виски. Каждый вечер за ужином он ко мне приставал: какого рода в русском языке слово «кофе»? Мама его успокаивала. Когда папа учился в университете, он стал совсем уже маоистом, но вдруг испугался, что маоисты любят Сталина. Вместо этого он поехал в Москву работать в посольстве. Там русские дипломаты принимали его за своего, но приходили в ужас, потому что он был не их. Он не все правильно говорил, и музыкант из Москвы над ним смеялся: папа произносит не БЕЗ, а БЭЗ, а я вырос в Москве, у меня была нянька-кагэбешница, я дружил с милиционером, который охранял наш дом на проспекте Мира. Я научился говорить по-московски.
Я скучал без Москвы, мне туда постоянно хотелось. Русские хоть могут кошку повесить или птичку подстрелить, а французы — они все защитники природы. И папа с мамой — тоже защитники. Они не хотят снова в Москву. Они только вспоминают. Папа недавно в первый раз вспомнил, что он деньги диссидентам возил портфелями, передавал в темных подъездах. Он думал, что милиционер на проспекте Мира вместе с дворником Сашей возьмут и забьют его ломом. Но ходил по подъездам из принципа. Возвращался домой усталый, полночи играл на лютне. Наконец ему дали понять, что все знают, куда он ходит, и мы уехали, не попрощавшись. В другой раз папа за ужином вспомнил, что, когда Солженицын был в Париже, ему не только спасибо не сказали, — не познакомили! А жена Синявского ему даже хамство сказала, что «ужасно быть таким, как он», не знаю, правда, из-за чего. Папа тогда снова играл на лютне, раны заигрывал.
Так они и сидели с мамой на кухне под Парижем, обсуждали, когда Россия кончится, но Россия назло им не умирала. Они стали лаяться, затеяли разводиться. Мама переехала в мастерскую, папа в угол смотрел, но помирились. Дочь генерала сначала была похожа на всех русских из Москвы: думала, тут дым коромыслом. А у нас в Париже глухо. С утра до ночи мы с ней носились, я ей показывал. На третий день я забыл свою реймскую дуру. Она восхищалась. Но потом в момент ей все разонравилось. А родители: откуда у нее деньги? — Да ты, папа, сам был шпион, хотя бы себе немного взял. — Я и так две квартиры купил: одну нам, другую — дедушке с бабушкой.
Дочь генерала как вошла, у нее брови ушли на чердак: кислым табаком пахнет, потолок низкий. Я увидел все по-другому. Гостиная перекрыта гипсокартоном: чтобы у папы свой кабинетик был. И моя — детская — собачья будка с иконой заступника в красном углу.
— Мамина. Она не только реставрирует. Моя мама из рода Рюриков.
— Эх, вы, Рюрики, — вздохнула Катя. — Я одно время балдела от православия.
— Франция свихнулась на буддизме.
— На буддизме? Старый клиент. От мусульманства скоро потащусь.
Сели ужинать по-семейному, в подсобной столовой возле кухни. На стенках — двенадцать маленьких репродукций мировых шедевров.
— А что, деканы во Франции неважно зарабатывают?
— На жизнь хватает, — усмехнулся папа.
— Разве это жизнь? — еще раз огляделась дочь генерала.
— Сося! — всплеснула руками мама.
— А я привык, Сося, — быстро ответил папа, — что мне хамят. Но все-таки не в моем доме! — зарычал он.
— Да вы зря сердитесь. Я просто спросила на всякий случай. Это кто, Джотто?
— Джотто! — мрачно подтвердили родители.
— А что значит «Сося»? — спросила дочь генерала.
Дальше мы кролика ели молча. Кролик на редкость вонял в тот вечер. У мамы вообще бзик на кроликах.
— А вы чем в Москве занимаетесь? — наконец спросила мама.
— Думаю, не стать ли актеркой.
— Кем? — переспросил Сося.
— Актеркой. Пока снимаюсь для журналов. Главным образом, голой.
Соси тихо уставились на Катю. Я — тоже.
— Ну, да, порнография. У нас в Москве вообще модно сниматься голыми. В какую квартиру ни приди, в ванной или еще где висят голые фотографии хозяев. Причем, не просто голые. А так, с раздвинутыми задами.
Папа с трудом боролся с брезгливостью:
— И вы тоже?
— Не только я. У нас и старики, которым за пятьдесят. Нет ничего омерзительнее голых пятидесятилетних мужиков, думающих, что они еще красавцы.
Пока папе не исполнилось пятьдесят, он был не прочь пошутить, они с московским музыкантом даже иногда хохотали, но как исполнилось, у него вся нервная система изменилась.
— А что делать мужчинам за пятьдесят? — снова не выдержала мама. — Не трахаться, да?
Она была младше папы на семь лет. Когда-то она была его аспиранткой.
— Вы знаете такие слова? — расширила глаза Катя. — Мне не жалко — пусть трахаются, только кто с ними захочет трахаться?
— Например, я, — с вызовом сказала мама.
— Сося! — невольно воскликнул папа.
— Ну, если только вы, — пожала плечами Катя.
Я был в разорванном экстазе. Мне снова захотелось в Москву. Там так у них все позволено! А что я? Кататься на велосипеде с гор по пересеченной местности? Или, как мой подпарижский Обломов, сидеть на диване в вишневом халате с красным лицом, уставиться на русские книги и тянуть виски? Все время у нее в сумке звонил телефон. Она отвлекалась, извинялась, болтала, шептала, хохотала, даже однажды топнула ногой.
— Мой папа позвонил. Вам привет.
— А папа ваш… — начал Сося.
— Он летает. Он — русский летчик.
— Космонавт? — спросил я.
— Вам все секреты расскажи! — рассмеялась она.
— Как же в России без секретов? — хихикнул папа.
— А почему вы, гуманитарий, говорите БЭЗ, а не БЕЗ? У нас так никто не говорит.
Раз в неделю Соси ходили в гости. Мама старательно принимала душ и долго красила губы. Меня спрашивала виновато:
— Тебе не будет страшно одному?
Я отвечал что-нибудь односложное. Я вообще с ними жил односложно. Но когда дедушке стало плохо в его уборной, я помчался наверх, к московскому музыканту, они сказали, они у него, а музыкант вышел весь сонный.
— Где вы были? — спросил я, когда они ввалились на цыпочках в шесть утра.
— На свадьбе. Студент женился, — сказал папа.
— Мы не хотели тебя пугать, — сказала мама.
Я первый раз в жизни на них наорал:
— Мне двадцать лет. Я — француз. Я не боюсь спать один. У деда инсульт. Он хочет дать дуба!
С тех пор дедушка то просился в больницу, то — из больницы. То ему пить, то — писать и какать. Родители ходили с открытыми от отчаянья ртами.
После ужина я пошел провожать дочь генерала в Париж. Она жила в роскошной гостинице на Распае, бывшей штаб-квартире Гестапо. Было еще время взять последний RER.
— Сося, — сказала мне Катя, — только негры ездят в RER!
Перед тем, как заснуть, я подумал, что если она снимается в порнографии, с ней надо трахаться, а не есть кролика.
— Elle est insupportable, — объявила Сося утром, уходя реставрировать.
— Больше ее не надо, — сказал Сося в желтом деканском галстуке.
Париж, конечно, пресный город, но в нем тоже кое-что есть. Мои друзья по университету презирали эти места за буржуазный разврат. Я взял у них адрес.
— Хочешь, настоящий притон? — позвонил я Кате. — Где трахаются.
— Не верю, — сказала она, — приезжай.
Она спустилась в холл гостиницы в черном маленьком платье.
— Тебе уже есть двадцать один год?
— Вчера исполнилось.