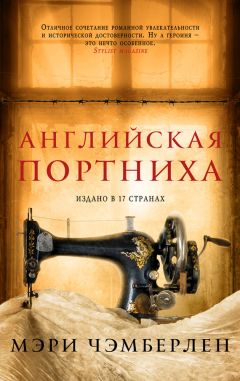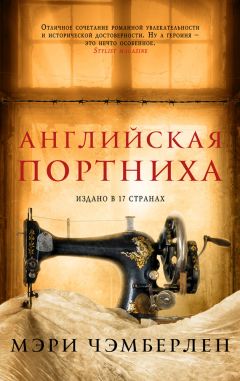Бросив взгляд на присяжных, Харрис-Джонс развернулся на каблуках к Аде:
– Свыше тридцати двух тысяч установленных жертв. Тридцать две тысячи человек. А вы жалуетесь на щепотку буры и плохую еду. – И обратился к жюри: – Немцы едят много квашеной капусты. Солят ее, маринуют. Лично я это блюдо терпеть не могу, но капитан Кук брал такую капусту в экспедиции. И ни один моряк в его команде не умер от цинги. Ни один.
Опять, будто кукушка в часах, он резко повернулся к Аде:
– На вашей войне было довольно легко, не так ли, мисс Воан?
– Нет, это была тяжелая работа, тяжкий труд. А кормили меня только капустной похлебкой.
– Вы не пытались устроить побег?
– Нет.
– Почему?
– Меня запирали в комнате. На окнах были решетки.
– Вы постоянно находились в комнате? Вас не выпускали на улицу?
– Выпускали только для того, чтобы повесить выстиранное белье. И опорожнить ведро, которым я пользовалась.
– Удобная возможность сбежать, разве нет?
– Меня стерегли. Круглые сутки. – Хотя Анни вряд ли помешала бы ей, но лучше им об этом не говорить. Да и куда ей было бежать? Ее поймали бы в два счета и пристрелили.
– Вы хорошо выполняли свои обязанности?
– Когда не выполняла, меня наказывали.
– Как?
– Плеткой. Меня били.
– И вы не сопротивлялись? Не осмеливались дать отпор немцам?
– Каким образом? – ответила Ада и добавила: – Я пыталась.
– Что это были за попытки, мисс Воан?
Ада коротко выдохнула, потом жадно вдохнула.
Ладони были горячими, влажными. Резинка на поясе расстегнулась, и чулок морщился, натирая ей бедро.
– Я пыталась заразить их одежду. Надевала ее, прежде чем отдать им. Терла ее о мою потрескавшуюся кожу, чтобы это шелушение застряло в швах и в плетении ткани. Я знала, что они брезгуют мной.
– И все?
– Я вшивала розовые шипы в сборки и вставки на одежде фрау Вайтер. – Ада смотрела на присяжных: – Она носила широкие юбки и блузки, так что складок хватало. И это плохо на ней сказывалось.
Тут он рассмеялся. Харрис-Джонс смеялся.
– Видите, господа присяжные? Пока наши ребята сражались с немцами, жертвуя жизнью ради свободы, Ада Воан примеряла чужую одежду и подсыпала едкий порошок в корыто с бельем. Молодец, мисс Воан. Вы невероятно приблизили нашу победу.
Зазвонил церковный колокол, гулкое бом-бом. Звонили в храме Гроба Господня, прямо напротив здания суда. «Чем ты отплатишь нам, судейским колоколам», вспомнилась Аде строчка из песенки. Она сосчитала удары. Двенадцать часов. Судья помалкивал. До Ады доносился лишь легкий скрипучий шорох, когда судья потирал щетинистый подбородок. От толстых чулок со штампом «Холлоуэй, тюрьма Его Величества» у нее зудели икры, и она потерла ногу о ногу. На ботинке развязался шнурок. Харрис-Джонс издевается над ней, выставляет ничтожеством. Терпение Ады лопнуло:
– Все было не так. Вам не понять, что там происходило. Я была их рабыней. В их полной воле. Запертая в четырех стенах. Не с кем слова молвить. Никакой надежды на спасение. Тяжкий труд. Действительно тяжкий. Вы когда-нибудь были рабом? Были?
– Достаточно, мисс Воан. – Подавшись вперед, судья воззрился на Аду поверх очков. Он походил на ворону, когда та хлопает крыльями над падалью, отгоняя соперников от своей «законной» добычи. – Вас предупреждали много раз.
Ада проигнорировала судью, она сверлила взглядом Харрис-Джонса:
– Рядом со мной не было никого, я полагалась только на себя. Делала, что было в моих силах. А вы бы что делали на моем месте?
– Уверен, вы не жалели сил, мисс Воан. – Голос Харрис-Джонса был исполнен иронии. – Совершенно уверен.
Он полистал бумаги, вынул один лист и положил на стол исписанной стороной вниз. Скорей бы уж он перешел к вопросам о Стэнли Ловкине, с тоской думала Ада, или Станисласе, о том, какой скотиной он был.
– Не расскажете ли, мисс Воан, как вы оказались в доме коменданта лагеря?
– Не знаю, – ответила Ада. – Меня просто посадили в грузовик и привезли туда.
– Вы поехали добровольно?
– У меня не было выбора.
– Что вы можете сказать о герре Вайсе?
Костистое лицо Вайса всплыло у нее перед глазами. Она почувствовала, как его трясущиеся пальцы смыкаются вокруг ее кисти. Аду передернуло, и она встряхнула руками, чтобы избавиться от этого ощущения.
– Он был одним из стариков, за которыми мы ухаживали.
– Как именно ухаживали?
– Содержали стариков в чистоте, кормили их, давали лекарства. Ничего особенного.
– А в герре Вайсе было ли нечто особенное, что побудило вас отнестись к нему иначе, нежели к другим подопечным?
– Он был школьным учителем. Ему выказывали уважение, и больше всех охранники. И он говорил по-английски. – К чему эти расспросы о Вайсе? Ада покосилась на мистера Уоллиса в надежде на помощь, но тот зарылся с головой в свои записи. – Он попросил меня разговаривать с ним по-английски, хотел усовершенствовать свои познания в языке.
– И вы этим воспользовались?
– Не понимаю, о чем вы.
– Вы обратили его внимание к вам себе на пользу?
– Взамен он учил меня немецкому, и я была ему благодарна за это.
– И ничего более?
– Ничего, – ответила Ада.
– Вы не оказывали ему услуги интимного характера?
Он строит догадки. Он не может знать наверняка. Она никогда и никому об этом не рассказывала, даже себе.
– Отвечайте на вопрос, мисс Воан, – прохрипел судья со своего возвышения.
– Иногда он вел себя непристойно, – сказала Ада. – Заставлял меня обнимать его, когда тешил себя.
– Тешил себя. Вам это нравилось?
– Разумеется, нет.
– У него были хорошие связи, не так ли? В Дахау. В нацистской партии.
– Он был родственником Мартина Вайса, коменданта.
– И вы попросили его перевести вас в дом коменданта в обмен на сексуальные услуги?
– Нет.
Нет. Сама она не просила.
– Ваше существование, meine Nönnerl[69], можно облегчить. Вы понимаете? – шепнул он ей на ухо, и она ощутила его горячее дыхание на своей шее, прикосновение жесткой щетины.
Чем была ее жизнь, если не медленным сползанием в смерть среди умирающих?
– Одна маленькая услуга, – настаивал он, – и это можно устроить.
Согласилась ли она? И что было бы, если бы она отказалась?
Плоть висела на его костлявом теле, будто пальто не по размеру.
– Вы тоже разденьтесь, – он приподнял тростью подол ее рясы, – я хочу посмотреть.
Кожа у него была маслянистой, он терся об нее, втирался в нее. Целовал, тычась языком в нёбо. Она лежала неподвижно.
– Это не больно, – говорил герр Вайс. – Адельхайд. Ада. Как я могу доставить тебе удовольствие? Скажи.
Оставьте меня в покое, хотелось ей сказать. Она не понимала, чего ему еще от нее нужно. Его слюна пачкала ей губы.
– Ах, я забыл, ты же монахиня. Но ты не девственница, верно, meine Nönnerl?
Он вошел в нее, и она услышала, как он скрипит зубами, напрягаясь из последних сил. Потом он обмяк и тяжело навалился на нее.
– Я человек чести, – сказал он. – Я всегда держу слово. И я сделаю твою жизнь более сносной. Тебе понравится.
Он перекатился на спину и закинул руку за голову, совсем как молодой мужчина.
– Кое-кому из моих знакомых нужна портниха. Как ты на это посмотришь?
– Портниха?
– Да. Это станет нашим маленьким секретом, Адельхайд. Моим и твоим.
Ада потянулась за сорочкой. Прижала ее к груди.
Он наблюдал, как она одевается, потом подал ей ключ:
– Отопри дверь.
Она вышла в коридор. Адельхайд. Ада. Он увидел в ней человека за плотской оболочкой. Женщину. Давно с ней такого не случалось.
И портниху.
– Даже тогда, – говорил мистер Харрис-Джонс, – вы бы продали свое тело ради лучших условий существования, и душу тоже. Тело и душу. Нацистам. Пакт, которым бы и Фауст гордился.
– Как вам объяснить? – воскликнула Ада. – Да и сможете ли вы понять?
Переезд в дом коменданта не облегчил ей жизнь. И не раз ей приходило в голову, что, наверное, лучше было бы остаться в приюте для престарелых с монахинями. Взаимная поддержка, разговоры по вечерам – всего этого она лишилась.
– Комендант был женат? – спросил Харрис-Джонс.
– В доме жила женщина с ребенком. – Голос Ады опять дрогнул. Бедный ребятенок. Кричал и кричал, пока кровяной сосудик в глазу не лопался.
– Его жена?
– Позже я выяснила, что он не был женат. Не знаю, кто была та женщина.
– Вы шили на нее. На кого-нибудь еще?
– Она приводила подруг.
– И вы тоже на них шили?
– Да.
– Расскажите, как вы там жили, мисс Воан. Опишите ваш обычный день.
Это не имело никакого отношения ни к провокации, ни к Станисласу. Харрис-Джонс попусту тратит время присяжных, время всех, кто находится в зале. И чем она хуже? Он не единственный, кто умеет ходить вокруг да около.