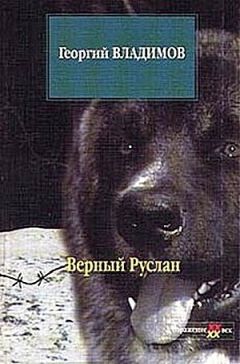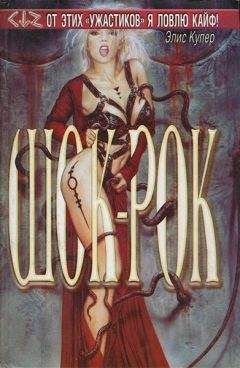Несколько позже в Восточной Пруссии, генералом армии и самым молодым из командующих фронтами, погибнет Чарновский — от осколка, попавшего ему в спину, под левую лопатку. Наверно, вторую бы жизнь отдал Чарновский, чтоб рана была — в грудь… Лихой Галаган, поднявшись в свой 251-й боевой вылет в небо над Балатоном, встретит противника, который покажется ему достойным, чтобы, не прибегая к тривиальной перестрелке, затеять с ним рыцарскую игру «кто кого пересмотрит». Считается, что ни один немецкий ас не принял русского лобового тарана, но, может быть, этот попросту растерялся, не справился с управлением, а только не отвернул он — и долго они не расставались, падая одним сверкающим факелом, покуда их не приняла остужающая озерная гладь… Генералы Омельченко и Жмаченко довоюют достойно, не чересчур выделяясь, но и других не хуже, за что и получат по генерал-полковнику и по Кутузову 1-й степени — кажется, оба в один день. «Танковый батько» Рыбко, носивший в своем толстом портфеле бесконечные разработки и выкладки, соображения и дополнения, сделает карьеру не только военную, но и ученую, как раз к исходу войны разбивши в пух и прах «пресловутую доктрину хваленого Гудериана», после чего уйдет в академию преподавать доктрину свою. Особенно же повезет Терещенко: вступив в командование 38-й армией, он, разумеется, одолеет те двенадцать километров и возьмет Предславль ровно к празднику 7-го ноября. Пройдя по Карпатам, он сильно пошерстит армейский состав, так что по пальцам можно будет пересчитать солдат-ветеранов, начинавших от Воронежа, а напоследок, для вящей иронии судьбы, достанется ему освобождать Прагу — уже почти освобожденную Первой дивизией РОА. Победы маршала Жукова, покрывшие грудь ему и живот панцирем орденов, не для наших слабых перьев, скажем только, что против «русской четырехслойной тактики» не погрешит он до конца, до коронной своей Берлинской операции, положа триста тысяч на Зееловских высотах и в самом Берлине, чтоб взять его к празднику 1-го Мая (опоздал на день!) и чтоб не поспел на подмогу боевой друг Дуайт Эйзенхауэр. Треть миллиона похоронок получит Россия в первую послевоенную неделю — и за то навсегда поселит Железного маршала в своем любящем сердце! Военная стезя генерал-лейтенанта Хрущева проляжет не так звездно, и звук «У» в первом слоге тут не поможет, однако ж война сохранит его для дела не менее славного — низвергнуть Верховного. Оценим же юмор и художественный дар, с какими запечатлит он Верховного в нашей памяти, вложив ему в руки, как зеркало Афродите, глобус, по которому тот будто бы и провоевал всю войну. Оценим неистовую энергию, с которой еще и еще потопчет он бывшего кумира и хозяина, плиты его пьедесталов употребит на щиты электростанций, бронзу памятников перельет на подшипники, самый его прах вышвырнет из Мавзолея догнивать в простой могиле, но и оттуда, из нового захоронения, достанет-таки его Верховный, достанет не своею набальзамированной рукою, а руками того заботливого полковника, безвестного во всю войну, а зато красавца, любимца и любителя женщин, дружеского застолья и задушевных песен, руками того «гарнэсенького парубка», имени которого так и не вспомнил Хрущев на совещании.
Среди таких биографий — как не затеряться «негромкому командарму» Кобрисову? Кто вспомнит, как он стоял на пароме посередине Днепра, умирая от страха перед «Юнкерсом», пикирующим прямо на него, плюясь огнем из обоих крыльевых пулеметов? А между тем в эти минуты в историю Предславской операции, в историю всей войны вписывалась страница, удивительная по дерзости и красоте исполнения, которой суждено будет войти в учебники оперативного искусства и опрокинуть многие устоявшиеся представления, но и страница загадочная, как бы недосказанная, не сохранившая имени автора.
Страницу эту назовут — Мырятинский плацдарм. Ее, как водится в стране, где так любят переигрывать прошлое, а потому так мало имеющей надежд на будущее, приспособят к истории, как ей надлежало выглядеть, но не как выглядела она на самом деле, и понаторевшие в этом лекторы из ветеранов, прихрамывая вдоль карты с указкой, убедительно докажут, что Мырятин с самого начала считался плацдармом основным, а не отвлекающим, — эту роль отведут Сибежу, — и было это, конечно же, заранее спланированным маневром, а не так, что случайно ткнулась лапка циркуля. Вот разве что сыщется все-таки дотошный историк, который не пощадит штанов в усидчивом рвении и докопается до истины? Или найдется щелкопер, бумагомарака, душа Тряпичкин, разроет, вытащит, вставит в свою литературу — и тем спасет генеральскую честь?
Впрочем, и этого не надо. Противник, судящий нас порою справедливее, чем мы друг друга, именно генерал-фельдмаршал Эрих фон Штайнер, в своих послевоенных мемуарах «До победы — один шаг» вот что скажет об этой загадочной странице: «Здесь, на Правобережье, мы дважды наблюдали всплеск русского оперативного гения. В первый раз — когда наступавший против моего левого фланга генерал Кобрисов отважился захватить пустынное, насквозь простреливаемое плато перед Мырятином. Второй его шаг, не менее элегантный, — личное появление на плацдарме в первые же часы высадки. Я понимал его чувства: подобно всаднику, посылающему лошадь на препятствие, он должен был прежде перенести через него свое сердце!.. Но уже на третий ход — русских не хватило. Я так и предвидел, что вместо немедленного, всеми наличными силами, броска на Предславль они предпочтут штурмовать этот городишко Мырятин, который мы сами не считали столь важным опорным пунктом. Это им стоило трех недель промедления и нескольких тысяч убитыми, которых могло не быть. Русские повели себя, как нищие: перед ними лежал алмаз, а они предпочли выторговывать — грошик…»
Но — кончается переправа, блондинка-регулировщица высоко подняла жезл, сама вытягиваясь в струнку, и танковая колонна взревела дизелями, окуталась черным дымом, готовая вступить на измочаленный настил.
У самого съезда возились двое саперов, привязывали к леерной стойке шест с фанерным щитом. По белому полю бежала размашистая черная надпись: «Даешь Предславль!»
— Даю, — сказал генерал. — На серебряном подносе даю. Только руку протянуть.
Так пересек он Днепр в обратном направлении, расставшись с вожделенным, никогда не виденным Предславлем, оставив свою армию, — он, поклявшийся, что никакая сила не сбросит его живым с плацдарма.
Глава пятая
Кто без греха?
1
Обиды, обиды… Они жалят сердце! Они душат горло и заставляют ворочаться и скрипеть зубами в неизбывной злости. И выпивка помогает ненадолго, просыпаешься среди ночи, и нет бодрости встать, чем-то занять себя — тут они и впиваются, как ночные зверьки, которые днем прячутся в глубоких норах, а с темнотою выползают и набрасываются скопом. Одно спасение — не противиться, какой-нибудь из них дать себя погрызть; тогда другие, заждавшись своей очереди, уползут до следующей ночи.
Среди всех обид, какие нанесли генералу жизнь и люди, особенно мучили те, которые сам же помог нанести по глупости. Их не на кого было свалить, некому бросить в лицо злой упрек. И к ним теперь прибавилась та последняя, которую нанес он себе при отъезде. Он все-таки сделал эту глупость, поехал через Ольховатку, мимо штаба фронта, с надеждою, что Ватутин, увидев воочию его отъезд, не утерпит, велит задержать, пригласит еще подумать вместе. И может быть, нашлось бы приемлемое для обоих решение. Не мог же Ватутин так равнодушно с ним расстаться — ведь, кажется, ценил его, и столько провоевали вместе! И ведь предлагал же заехать…
Возле Дома культуры, с античными его колоннами и портиком, сгрудились штабные «виллисы», «доджи», верховые кони, шмыгали разных чинов офицеры. И чувствовалось по их суете, что командующий фронтом у себя, не отъехал обедать, ни на плацдарм. Кто-то из них должен же был Ватутина оповестить, да и пост охранения еще при въезде в село небось передал, и сам он вполне мог увидеть из окна, что бывший командарм-38 едет мимо — не спеша, в машине с откинутым тентом. Кобрисова узнали — кто-то вытянулся, откозырял, другие лишь повернулись к нему, и ни один не расшевелился сбегать доложить. И теперь казалось ему и особенно язвило, что Ватутин все видел из окна, шепнули ему, обратили его внимание — и он не приказал остановить, не пожелал на прощанье хоть десять минут посидеть вдвоем — без адъютантов, без соглядатаев. И наверняка те офицеры сообразили, что Ватутину видеть бывшего командарма незачем. Эта штабная мелюзга собачьим верхним чутьем унюхивает кровоточащую рану, а подошвами ощущает дрожь, какую распространяет по земле агония умирающего тела. А ведь сначала верное было решение — не ехать через Ольховатку! Что за дурак! Никак не научится доверять первому движению души, — как, впрочем, и первому впечатлению от человека, — а они-то, звериные, не обманывают!