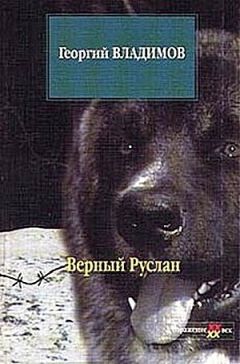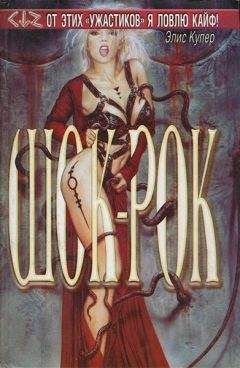За этой обидой дождалась своей очереди самая большая — весенняя 1941-го года, которая всю его жизнь перевернула, сделала его другим. И не сказать, чтобы она совсем была неожиданна. Перевод в столицу, пусть в том же звании и должности, воспринялся как повышение и скорее льстил ему и окрылял, хоть и печалил тоже — расставанием с людьми, с налаженным укладом жизни, роскошными охотами в тайге. Но были и опасения — смутные, в которых и разбираться казалось трусостью. Кобрисова отзывали в Московский военный округ формировать дивизию, намекалось — противодесантную, для охраны столицы; здесь как будто не ожидалось подвоха, а тем не менее сказала жена:
— Смотри, Фотя… Вот так и Василия Константиновича выманили. Уж будто в Москве своего не нашлось формировать, тебя приглашают.
Это правда, взяли Блюхера не прежде, чем отделили обманно от Дальневосточной армии, где никакие чекисты, хоть и сам Ежов, его взять не могли бы. С ним, Кобрисовым, едва ли бы стали так церемониться. А что формировать московскую дивизию призывали дальневосточника, так то был всегдашний государственный принцип — разбивать солидарность, земляческую или национальную, это еще от царей пришло — чтобы в охране служили инородцы. Для Москвы и был Кобрисов инородцем.
Однако ж дивизия оказалась не выдумкой чекистов, уже почти составился ее штаб в Филях, укомплектованы хозяйственные тылы, прибыли с завода первые танки, восемь машин, и даже назначены участвовать в первомайском параде. И он написал жене, чтоб собралась и приехала выбирать квартиру, ему некогда ездить по четырем ордерам. Самого его пока поселили в гостинице «Москва».
Та весна 1941-го была долгая и холодная, обложные изматывающие дожди не переставали до середины июня, а сама Москва поражала и разлитым в воздухе ожиданием иной грозы, военной, и жадным стремлением не видеть, откуда надвигались тучи, надышаться покоем. В кино показывали «Если завтра война», зрелище вполне успокоительное, там наши боевые самолеты выпархивали прямо из подземных ангаров, а танки спускались на тросах с кручи и так же форсировали реку, не касаясь воды, — об амфибиях, поди, и не слыхивали киношники, — и условный враг в условной униформе погибал несметными полчищами, не вынеся своей глупости. Закрывались посольства Бельгии и Греции, оккупированных германскими войсками, но для лекторов «главными нашими врагами» оставались «Англия на западе, Япония на востоке». Рудольф Гесс, второе лицо в Германии, заместитель Гитлера по партии, перелетел на самолете в Англию — и, наверное, не войну ей объявить, а совсем наоборот, и газеты заикнулись было об «англо-германской сделке», но тут же примолкли, когда англичане миссию Гесса отвергли, а самого его посадили в тюрьму. К туманному Альбиону это симпатий не вызвало, он в любом случае был плохой. В саду «Эрмитаж» конферансье рассказывали анекдоты «с международным уклоном»: Гитлер жалуется товарищу Молотову: «Вот уже полтора года бомбим Лондон, а все не можем его разрушить». — «А мы вам, — ответил Вячеслав Михайлович, — пришлем десяток московских управдомов, они любой город разрушат в три месяца». Смеялись и хлопали, но человеку военному, который знавал бомбежки, слушать это было и тогда стыдно, и еще стыднее потом, когда бомбы упали на Киев и Минск, и эта бомбимая не поддававшаяся Англия первая себя объявила союзницей России.
И был холодным и пасмурным, хоть и не дождливым Первомай, когда впервые Кобрисов, стоя на трибуне для гостей, увидел Вождя. Увидел издали, снизу, и то и дело его заслонял рослый Тимошенко. А впрочем, и времени высматривать было у Кобрисова мало, в общем строю сводного полка Московского гарнизона должны были пройти его танки. Свои БТ-7 он узнавал уже среди всех других, даже не по номерам, а как укротитель в цирке не спутывает своих тигров ни с чьими другими, как будто такими же полосатыми, и их самих различает по именам. Он их узнал сразу — и смотрел напряженно, как они пройдут. Он сам тренировал водителей держать равнение, чтоб ни на сантиметр никто бы не выдвинулся и не приотстал, и уже мог быть уверенным, а все же волновался изрядно. И вот через несколько секунд они должны были пройти траверз его трибуны, и он бы увидел равнение их пушек и корпусов. Но прежде они должны были миновать траверз Мавзолея.
Среди гостей того последнего довоенного парада мало кто услышал, за маршами и ликующими выкриками из динамиков, перемену звука моторов, мало кто обратил внимание, что два танка в шеренге вдруг замедлили ход, и торчавшие из башенных люков головы и плечи командиров сразу же исчезли, и захлопнулись крышки люков. Полной остановки не было, но так как все двигалось и обгоняло их, как стоячих, то и показалось, что они стоят. Это длилось не более четверти минуты; танки, шедшие следом, плавно их обогнули, а там и те два тоже двинулись и еще до подхода к Василию Блаженному выровняли строй. И, может быть, у кого-то из зрителей крохотная эта заминка оставила впечатление изящного, заранее отработанного маневра, — но, верно, не у военных. А у Кобрисова екнуло и заныло сердце.
После парада он вызвал к себе командиров, выслушал их объяснения о том, что вдруг начались перебои в двигателях, и они приспустились узнать, в чем дело, и, может быть, помочь водителям восстановить ход. Все было просто, ясно, понятно, а тем не менее оставило в Кобрисове неприятный осадок, и он не рассеивался от новых забот, но оставался где-то глубоко, в виде покалывания или ноющей боли. Было особенно неприятно, что тем и начнется его служба в Москве.
На двенадцатый день пришли за ним в номер. Постучались сразу после восьми утра, когда он, выбритый и освеженный одеколоном, надевал фуражку ехать в свой штаб, и, когда открыл — стояли двое в коридоре, вежливо взяли под козырек, сказали, что машина ждет, но шофер заболел и повезет другой, один из них. А почему двое их, новый шофер просил извинить, что подкинет дружка в одно место неподалеку. Долго потом терзало генерала, что он мог бы и догадаться, да ведь и догадался, почувствовал же первоначальным звериным чутьем какую-то игру, но вместе и странное оцепенение — от слишком обидной мысли, что с ним могут обойтись так немудряще, так унизительно просто. Впрочем, уже в машине играть перестали, сказали, что место, куда подкинут генерала, такое, что вся Москва перед ним трепещет и каждый старается побыстрее пройти мимо, даже не посмотреть на эти ворота, к которым вот как раз и подъехали. И, словно бы эти слова были паролем, глухие безглазые ворота раскрылись, пропустили машину и тут же захлопнулись. Генералу еще услужили — «дружок», выскочив первым, раскрыл ему дверцу.
Через каких-нибудь полчаса он был обыскан, лишен ремня и кобуры, бумажника с документами и фотографиями жены и дочек, часов, ключей и даже алюминиевой расчески, и обмакнутые в черную краску пальцы ему прокатывали по бумаге. А следом подвергся и «физиологическому обыску», то бишь предстал голый перед громадной бабой в белом халате, с белым пустым лицом, на котором глаза располагались выше, чем следовало, а рот — малость ниже. Величиною она была с памятник Екатерине в Питере, купно с его пьедесталом.
— Ко мне спиной, — командовала она хоть и грубым, но все же бабьим голосом. — Нагнитесь. Раздвиньте ягодицы.
— Да что я там могу спрятать? — вскричал генерал.
— Ко мне лицом, — говорила женщина-памятник. — Поднимите половые органы.
— Батюшки, неужто и тут прячут?
Он еще пытался корявыми шутками побороть стыд, довольно неожиданный в человеке военном, ежегодно проходившем медкомиссию, в составе которой были и женщины, подчас хорошенькие. Как ни странно, а перед ними предстоять в чем мать родила он стыдился куда меньше, там все смягчалось легкой игрой, с ними и пошутить было приятно, и на темы пикантные, этими шуточками перекликалось Божье братство полов, так пленительно меж собою враждующих. Вот чего не было там — брезгливого равнодушия к твоему стеснению. И тело твое не рассматривалось с той точки зрения, что и куда можно в нем спрятать. Интересно, когда бы он успел, арестованный внезапно и все время бывший под присмотром?
— Одевайтесь, — сказала пустолицая.
В обыскном боксе ему выбросили его гимнастерку с отпоротыми петлицами и срезанными пуговицами и тоже без пуговиц галифе, которые он должен был придерживать руками. Впрочем, надзиратель дал ему с полметра шпагатика и показал, как одним концом обвязать верхний угол ширинки, а другой конец продеть в пуговичную петельку. Он же, сердобольный, объяснил, почему нельзя пуговицы — чтоб не заточил о каменный пол и не взрезал себе вены. Сапог ему тоже не вернули, а дали шлепанцы без задников, они постоянно спадали с ног, так что ходить нужно было в них, не отрывая от пола, со стариковским шарканьем. И такого, потерявшего вместе с формой нечто весьма важное для человека военного, который себя и в штатском костюме чувствует не совсем ловко, ввергли в одиночную камеру и с грохотом заперли.