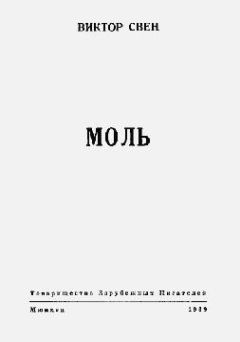— Вы что? Зэка? — спросил он.
— Угу, — буркнул кто-то в ответ. — А там действительно пожар.
— И пусть горит, — захрипел рядом с Уходоловым простуженный голос. — Это, так я догадываюсь, на прииске номер пять. Начальник там, я слышал, сущая собака. Из людей жилы выматывает.
— А ты откуда знаешь? — спросил Уходолов.
— Откуда? — простуженный с хрипом, со свистом в груди, зашелся в натужном кашле. С трудом справившись с ним, ответил: — Об этом все знают. Одна только советская власть не хочет знать.
— А у нас, на Каменном ручье, — вмешался зэка, сидевший где-то сверху, — начальство само сожгло приисковую контору. Хищения, говорят, золота там большие были. Следы, значит, заметали и прятали.
— И спрятали? — поинтересовался простуженный.
— Того я не знаю. Нас отправили на Таймыр, в изолятор.
Все замолчали. Дальний пожар стал затухать.
«Это от керосина из нашей лампочки занялось», — подумал Уходолов и сказал: — Сгорело.
Ему никто не ответил. Люди, натянув на головы одеяла, дремали.
Подождав еще немного, Уходолов соскользнул с саней и ушел в ночь.
Двигался он медленно. Потом вдруг остановился и не понимая, что с ним творится, во весь голос крикнул:
— Ксюши нет!
Никто не отозвался. Молчала тундра. Низкое и темное небо словно притаилось в ожидании. Сколько будет длиться это ожидание? Месяц или полтора? Уходолову пришла мысль, что северная ночь никогда не кончится и что дальше жить не стоит.
И действительно не стоит. Раньше у него была почва под ногами. Был старик отец. Потом — чудаковатый профессор богословия. А вот теперь последнее: Ксюша…
Ради нее он стал другим человеком. «Чистым», — как говорила Ксюша.
А сейчас? И вдруг он вспомнил, что короткой полярной весной приезжали на прииск «гости» в малицах и среди них был один в темных очках и с черными усами. Усы шныряли по прииску, что-то вынюхивали, кой с кем вели таинственные разговоры и однажды (это совсем отчетливо представил себе Уходолов) очень пристально поглядели на него.
Как-то легко и просто Уходолов снял эти усы и очки и увидел перед собою Мохова.
— Ага, — простонал Уходолов. — Вот откуда всё идет.
Совсем недавнее признание, что без Ксюши дальше жизни нет, сменилось страстным желанием жить во что бы то ни стало. Для чего? Чтобы найти не только Мохова, Решкова, но и всех тех, кто стрелял в его Ксюшу на Тамбовщине в 1920 году, и кто здесь, у Полярного круга, убил ее, так и не родившую уже ожидаемого ребенка.
«Найду и посчитаюсь», — скрипнул зубами Уходолов, и почему-то вспомнил легенду, которую сложили о нем в тайниках Подола и Еврейского базара.
Легенда состояла в том, что у него легкая рука. Ему всё удавалось, и запутанные дела заканчивались благополучно. Потому, видимо, когда он порвал с Еврейским базаром и Подолом и под фамилией никому не известного Уходолова тронулся искать свою Ксюшу, у него была вера в то, что легкая рука вывезет и дальше, что он не погорит, и что не судьба ему заполучить кусок свинца в подвале чека или розыскную пулю в спину.
И вот он погорел. Где-то там, у Полярного круга, осталась мертвая Ксюша. Ксюши нет, и в ничто превратилось его стремление к какому-то маленькому, но своему и такому чистому счастью.
Убежденый в своем праве произвести расчет, он несколько недель, весь остаток долгой северной ночи, петлял по тундре и тайге, чтоб потом — к весне — прибиться к Томску и затаиться на правом берегу Томи, вглядываясь в далекие еще огоньки фонарей.
«Это около вокзала, — словно убеждая кого-то, сказал он себе и добавил: — Конечно, около вокзала»…
Осторожно двигаясь вдоль реки, он нашел заброшенную охотничью зимовку. Установив, что к ней давно уже никто не подходил, он забрался в шалаш и сразу почувствовал физически непреодолимую потребность отдохнуть. Даже не подумав о том, что можно развести огонь, он — без рассуждений — упал на кучу кедровых веток. Место оказалось удобным и, главное, совсем тихим.
Но стоило лишь ему уснуть, тут же восстановились события последних недель. Поднималось всё. Грязевая каша с шорохом ползла в барабан драги. Барабан вертелся. На барабан как бы накручивалась кинолента, и чем больше накручивалась, тем всё яснее и яснее вырисовывалось теплое и радостное лицо Ксюши… В избе чуть-чуть мерцала небольшая керосиновая лампочка. Она давала света ровно столько, сколько надо. Свети она сильней, было бы хуже, не так уютно и… и вот рванулась дверь и на весь мир кто-то гаркнул: «Руки вверх!»
Уходолов вскочил с кедровых веток. В шалаш робко заглядывало раннее утро. В своей руке Уходолов увидел кольт.
Сунув пистолет в карман, Уходолов потер озябшие руки и покинул зимовку.
Часам к пяти вечера он попал на территорию станции и высмотрел готовящийся к отправке товарный поезд, сумел забраться в один из вагонов, груженных кедровым кругляком, отправляемым обычно на фабрики центральных областей.
Если поезд тронется сегодня ночью, рассчитывал Уходолов, то Урал он перевалит на третьи или четвертые сутки, и где-то там, за Уралом, оставит вагон и направится дальше.
Куда «дальше» и где это «дальше» — Уходолов не знал. Ему было известно лишь одно: он обязан двигаться дальше, пока не найдет тех, кого надо найти.
Когда поезд уже мерно отстукивал колесами, Уходолов вдруг почувствовал то, что психиатр мог бы назвать «вдохновением ожесточенности». Но таких слов Уходолов не знал. Он просто переживал то, чего никогда не переживал. Затаившись среди кедровых кругляков, он это жестокое вдохновение воспринимал естественным правом на убийство и даже видел созданный воображением труп красиво убитого Решкова, о котором будут долго говорить и объяснять, что так бывший чекист Суходолов, под конец захотевший стать чистым Уходоловым, расплатился за свою Ксюшу.
Вдруг, и совершенно непонятно почему, Уходолов вздохнул, оторвался от злых мыслей и почувствовал теплоту той душевной боли, которой он болел за Ксюшу, за своего отца тамбовца, за непонятного старика профессора Воскресенского. Но душевная теплота, вначале такая радостная, быстро ослабевала. Руки Уходолова стали вялыми. Голова клонилась всё ниже и ниже. Наконец, пришло решение, что без Ксюши он никому не нужен и неизвестно зачем доживает свои последние дни.
И всё же — это была лишь минутная слабость сильного человека. Уходолов выпрямился, шевельнул плечами и с привычной уверенностью сунул руку в карман. В кармане был кольт.
В конце концов Уходолову удалось покинуть сибирские просторы, перевалить за Уральские горы и где-то, под покровом ночи, распрощаться с кедровым кругляком, чтобы потом, добравшись до Днепра, окунуться в свою прежнюю жизнь в тайниках Киева.
Случилось это, конечно, далеко не сразу. Был даже такой момент, когда он серьезно задумался над вопросом: стоит ли возвращаться в Киев?
В сомнениях и колебаниях он прожил две недели в Вологде. Дни там тянулись бесконечно долго, а ночи заполнялись сновидениями, зовущими туда, к Полярному кругу, в поселок, в котором горел домик. В этом домике осталась Ксюша.
Уходолов просыпался и, проснувшись, долго смотрел в темноту и казалось ему, что всё прежнее — и выстрелы, и вспыхнувший на полу керосин из сброшенной им лампочки — всё сейчас повторится.
Наконец, он не выдержал, и как-то ранним утром, поправив кольт в кармане, вышел на улицу, слился с рабочими, идущими на смену. Потом, оторвавшись от них, он попал на вокзал и втиснулся в переполненный вагон.
Дальше были пересадки… Были другие поезда, в которых Уходолов двигался на юг.
Автор обгоняет это движение, переносится на берега Днепра, чтобы рассказать —
О Тобаридзе, Атаманчике, Другасе, Ступице и других
Тобаридзе попал в Киев после того, как отсюда — совсем неожиданно и навсегда — исчез Уходолов.
Никто в точности не знал, какая судьба привела Тобаридзе в эту странную и острую жизнь. Лишь по иногда бросаемым пристальным взглядам Атаманчика можно было догадываться, что ему известно о Тобаридзе такое, чего никто не знает. Но Атаманчик молчал, вместе со всеми удивляясь особенностям Тобаридзе, его умению говорить, играя глазами, в которых удивлявшее всех благородство могло сразу же смениться не рассуждающей свирепостью.
Окружающие Тобаридзе, даже не понимая почему так произошло, очень скоро признали его не только своим, но и главным, и поверили в него, как верят, что днем — светло, а ночью — темно.
А Тобаридзе? Он посмеивался.
— Вы слепые, — говорил он. — У вас был Уходолов, а вы его не разглядели. Я — что? Вернулся бы Уходолов, я бы ему в ножки поклонился и радовался бы ему. А вы передо мною пляшете.
Тогда кто-то, кажется Ступица, заспорил, сказал, что как такое можно думать о человеке, которого не знаешь и которого в глаза не видел.