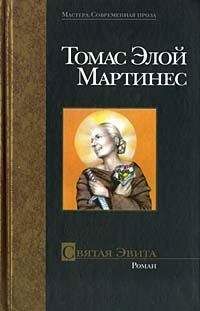Эвите было пятнадцать лет. Бледная до прозрачности, с длинными выщипанными бровями, которые она карандашом еще удлиняла почти до висков. Тонкие, слегка жирные волосы были подстрижены a la garcon[101]. Как все почти девочки из народа, она выглядела не очень опрятной и чуть жеманной. Не знаю, насколько описанный им образ был окрашен Эвитой, с которой он потом встречался в первые месяцы 1935 года. Памяти свойственно изменять реальность, но в конечном счете важна в этом рассказе не сомнительная красота Эвиты тех лет, а ее смелость.
Перед тем как подали десерт, на одну из тарелок сел степной жаворонок и склевал зернышко кукурузы. Донья Хуана сказала, что это добрая примета, и предложила еще тост. Адвокат или учитель стал уверять, что это не жаворонок, а дрозд. Кто-то из них надел очки в темной черепаховой оправе, чтобы рассмотреть птицу вблизи. Эвита остановила его резким жестом.
— Сидите спокойно, — сказала она. — Если их испугать, жаворонки перестают петь.
Магальди впал в задумчивость и с этого момента перестал разговаривать. Его, как Гарделя и Игнасио Корсини, часто называли либо «креольский дрозд», либо «аргентинский жаворонок». Он был суеверен и наверняка почувствовал, что если ему случайно довелось оказаться за одним столом с дикой птицей, которую можно увидеть только в плену, причина в том, что оба они сотворены из одной субстанции. Магальди верил в реинкарнацию, в символические явления, в определяющее значение имен. То, что Эвита невзначай назвала самый потаенный из его страхов — что он не сможет петь, — внушило ему предположение, что между Нею и им также существует связь. Кариньо изложил мне это более эзотерическим языком, и боюсь, что, стараясь разъяснить его мысли, я только делаю их смешными. Он говорил о Ра, астральных странствиях и других свойствах духа, смысл которых я не понял. Однако один из его образов мне запомнился накрепко. Он сказал, что после эпизода с жаворонком взгляды Эвиты и Магальди то и дело встречались. Она никогда не отводила глаз. Это он опускал голову. После десерта Она сказала безапелляционным тоном:
— Магальди самый лучший певец в мире. Я тоже стану самой лучшей актрисой.
Прежде чем они ушли, мать подозвала Магальди и повела его в одну из спален. В столовую доносились ритмичные интонации ее голоса, но не слова. Певец бормотал что-то, напоминавшее протест. Когда он вышел, на лице его снова было меланхолическое выражение.
— Продолжим разговор завтра, — сказал он. — Напомните мне об этом завтра.
Кинотеатр «Кристал палас» в тот субботний вечер был полон. Оркестр Кариньо играл, освещенный висячей люстрой. Магальди, предпочитавший полумрак, зажег на сцене два канделябра, чем создал зловещую атмосферу, подходящую к его песням о всяческих несчастьях. Женщины семьи Дуарте заняли половину ряда в партере и восторженно аплодировали. Только Эвита казалась отсутствующей и невозмутимой. Ее большие карие глаза были прикованы к сцене и ничего не выражали, словно все Ее чувства куда-то исчезли.
При выходе их ждали семь фермеров, которые привели свои семьи, чтобы показать им, что Магальди человек из плоти и крови, а не иллюзия радио. Матери нескольких каторжников подошли к Педро Ноде с письменными просьбами облегчить их сыновьям ужасы тюрьмы на улице Ольмос[102]. Вдоль тротуаров стояли, опершись на дверцы своих «вуатюретт»[103], импресарио «Кристал палас», приготовившие банкет в Общественном клубе — все в белых костюмах и сорочках с твердыми воротничками. Они, по-видимому, испытывали нетерпение, то и дело гудели сиренами своих машин. Между Магальди и ими курсировала невозмутимая донья Хуана со сложенными на груди руками. Она выглядела очень нарядной с большой розой из органди в вырезе платья. Выждав несколько минут, она подошла к певцу и, взяв его под руку, отвела в сторону. Кариньо, насторожив слух, услышал короткий, деловитый диалог.
— Помните, что вы мне обещали: завтра вы опять обедаете у меня. Так ведь? Вы и Нода будете моими гостями.
— Не знаю, сможем ли, — уклончиво ответил Магальди. — У нас вечерний концерт. Времени остается мало.
— Концерт начнется в шесть часов. Времени хватит с избытком. Почему бы вам не прийти в двенадцать и не побыть до трех?
— Хорошо. В половине первого.
— И окажите еще одну любезность, Магальди. Выйдите в одиннадцать часов на площадь. Сможете? Эвите дали пятнадцать минут, чтобы она прочитала стихи, и чтение передадут через громкоговорители. Она просто умирает от желания, чтобы вы ее послушали. Вы обратили на нее внимание?
— Да, хорошенькая, — сказал Магальди. — У нее есть данные.
— Она ведь и правда очень хорошенькая. Я вам это говорила. Этот городок для нее мал.
Сирены «вуатюретт» торопили. Магальди поспешил откланяться и сел в одну из них. Весь вечер он был погружен в свои мысли, роняя в ответ односложные реплики. Он почти не ел, выпил лишь одну-две рюмки граппы[104], а когда его попросили взять гитару, отказался, сославшись на плохое настроение. Пришлось Ноде петь одному.
В отель вернулись незадолго до рассвета. В вестибюле их еще развлек грохот экспресса, пересекавшего эту пустыню. Кариньо предложил прогуляться по окрестностям и, не дожидаясь чьего-либо ответа, подхватил под руку Магальди, который покорно подчинился. Стоял ноябрь, небо было безоблачное, в воздухе мерцали искры росы. Они прошли по кварталу одинаковых домов, из которых доносилось квохтанье кур. Дальше были пустошь, большой двор, неровная брусчатка перед гаражом. Оба шли, держа руки в карманах, не глядя друг на друга.
— Почему ты не хочешь мне сказать, что с тобой происходит? — спросил наконец Кариньо. — Научишься ли ты когда-нибудь доверять друзьям?
— Со мной все в порядке, — ответил Магальди.
— Э, нечего меня морочить. Я с пеленок вижу людей насквозь.
Они остановились под фонарем в колеблющемся круге света. «Я почувствовал, — сказал Кариньо, — что запруда в его душе вот-вот рухнет. Он не мог справиться с собой, ему требовалось высказаться».
Как рассказал ему Магальди, донья Хуана попросила его взять Эвиту под свою опеку в Буэнос-Айресе, до этого она много месяцев противилась отъезду дочери: не желала, чтобы девочка, едва окончив начальную школу, в пятнадцать лет уехала одна. Но Эвита, сказала мать, не уступала. Она так настаивала, что сломила волю матери. Девочка — сирота, у нее там нет других родственников, кроме брата, недавно взятого в армию, и она мечтает стать актрисой. В Хунине бывали драматурги, вроде Вакареццы, певцы, вроде Чарло, декламаторы, вроде Педро Мигеля Облигадо. У всех у них она просила помощи, и все отказывались под предлогом, что Эвита еще девочка и ей надо повзрослеть. Однако он, Магальди, смотрит дальше, чем любой из них, говорила донья Хуана. Если он кого-то порекомендует, никто ему не откажет. У этой девочки есть способности, сказал он. И теперь он не может отступить.
И еще этот жаворонок. Он сел на стол, чтобы указать его судьбу. Пренебречь указанием жаворонка — значит навлечь несчастье.
Магальди говорил быстро. По другую сторону путей пробуждалось небо в длинных полосах оранжевого света. Завернув за угол, он увидел свой отель. Магальди остановился. Он сказал, что всю ночь колебался, но этот разговор прояснил его мысли. Наконец он знает, что делать. Он поедет с Эвитой в Буэнос-Айрес. Оплатит ей пансион, представит ее на радио. Было уже слишком поздно или слишком рано, и у Кариньо не хватило сил его отговаривать.
— Ей пятнадцать лет, — сказал он только. — Всего лишь пятнадцать лет.
— Она уже женщина, — ответил Магальди. — Мать сказала: совсем недавно она стала женщиной.
Потом было нудное, бесконечное воскресенье из тех, которые хочется забыть. Эвита декламировала через громкоговорители концертного зала поэму Амадо Нерво, делая рулады и катастрофически растягивая слоги в подражание Гарделю. Ей аплодировали. Она вышла на площадь со своими сестрами, в то время как доморощенное сопрано расправлялось с «Аве Мария» Шуберта. Магальди вынул из петлицы белую гвоздику и преподнес ее Эвите. По словам Кариньо, он был заворожен отчужденностью Эвиты, презрением, которое звучало у нее даже в словах, напоминавших восхищение.
В тот же вечер после концерта они сели на поезд, шедший из Пасифико. Донья Хуана и ее дочки со слезами провожали Эвиту на перроне. Она выглядела инфантильной, была полусонная. Одета в хлопчатобумажную юбку и льняную блузку, соломенная шляпа, на ногах носочки, в руке потертый чемодан. Мать сунула ей за вырез бумажку в десять песо и все время не отходила от нее, гладила по голове, пока не показался поезд. Прямо сценка из радиотеатра, говорил Кариньо: прекрасный принц спасает от невзгод бедную и не слишком красивую провинциалочку. Все происходило почти как в мюзикле Тима Раиса и Ллойда Уэббера, хотя без кастаньет.