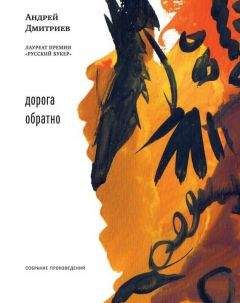Скрываясь из глаз, уходит на запад, мне за спину, Рысь, немного над нею, в зените, над самой моей головой, ковыляет Большая Медведица, ниже бегут Близнецы, спешат, едва поспевая за ними, Рак и Лев; сделавший полный круг Волопас объявляется вновь на востоке и норовит повторить свой путь; еще ниже, своим путем, движутся строго, один за другим, созвездия: Малый Пес, Гидра, Ворон, Дева, Весы, — тянется за ними голова Змеи, а совсем внизу, над ломаной линией освещенного Млечным Путем горизонта, стелется над Парусами Большой Пес, за ним плывет Корма, за нею шагает Циркуль, за ним — Кентавр и вновь оказавшийся на востоке Знаменосец…
— Ты где? — сердитый голос Марины громом гремит в пустоте планетария; я возвращаюсь к ней и забываю о звездах. Колени ее по-прежнему сжаты, но я угрюм, упрям, и, изнуренные моим упрямством, они разымаются… Я знаю давно, что именно должна ощутить моя рука, как только докарабкается до цели. Сколько раз, качаясь на корабельной койке, подражая разгулу океанских волн, давал я разгуляться своему воображению! Сколько раз, покоряясь моему воображению, руки мои, вцепившиеся в железную переборку, чувствовали буквально не железную переборку, а этот нежный, мерцающий жар!.. И все же я застигнут врасплох; я вскрикиваю, изумленный тем, что жар не сух, а уже откровенно и беспомощно влажен… В известных книгах я, известное дело, читал: он и должен быть влажен, но почему-то был убежден, что этого не так-то просто добиться. Скорее от неожиданности, чем от жажды, клещами сжимается моя ладонь. Скорее от боли, чем от неожиданности, вскрикивает Марина…
— …и на этом позвольте мне закончить сегодняшний наш разговор, — повысив голос, объявляет нам Серафим. Он грубо включает свет и, уже выбираясь из своей будочки, рекомендует нам посетить напоследок сад планетария, — снисходительная усмешка слышится мне в этой дежурной и волнующей рекомендации.
Наглухо замкнутый от любых посторонних проникновений остатками крепостной стены и покатой, тоже без окон, стеной планетария, этот сад был придуман ради того, чтобы любитель астрономии, принявший очередную дозу знаний, не расплескивал ее, сразу из-под ночных небес вступая в житейскую тину, но переживал бы и молчаливо обдумывал вплоть до полного усвоения среди сиреней, жасминов, яблонь, гипсовых глобусов, коперников и галилеев, бронзовых астролябий и телескопов, — отслеживая перемещение стреловидной тени на круглой клумбе солнечных часов, размышляя о свойствах времени и на время о нем забывая.
О том, сколько же их, невольных любителей астрономии, и впрямь забывали о времени, предаваясь любви в этих жасминах, в этих сиренях и даже на клумбе солнечных часов, так, что стрелка часов, перемещаясь по оголенным ягодицам бессовестного любителя астрономии, теряла присущую ей невозмутимость, вздымалась и вздрагивала вместе с ягодицами, — можно предположить, пересчитав корешки билетов в планетарий, проданных за все тридцать лет его существования, и приняв во внимание, что пенсионеры, дети и семейные любители астрономии в сад после лекции никогда не выходили.
Мы с Мариной выходим в сад. Я — впервые, Марина — не знаю, не думаю: слишком решительно ведет она меня, крепко ухватив за руку, в дальний угол сада, к гипсовому Циолковскому с бронзовым велосипедом у ноги, окруженному кое-как постриженным, густым и тесным боярышником. С малых лет меня преследовали и смущали дворовые и школьные байки о том, как разбредаются по кустам и углам распаленные пары, об их взаимных подбадриваниях, перешучиваниях, перемигиваниях, об этих их перевздохиваниях, перестанываниях, поддразниваниях — ах, как я боялся, вздыхая о саде, что так все и будет, и все мне испортит, но, хвала небесам, в этот предусмотрительно жаркий день мы с Мариной одни в саду, весь город — за городом или на городском пляже; один лишь задумчивый гипсовый Циолковский из-под круглых, серебрянкой крашенных очков во все глаза глядит на то, как я становлюсь мужчиной.
Я выплевываю перепуганную муху; она отвлекает меня лишь на мгновение, но уже через мгновение я приникаю ртом к широко и будто бы удивленно раскрытому рту Марины, и теперь ничто не в силах меня отвлечь: ни жужжание ос в жасмине, ни тяжелый взгляд Циолковского, прожигающий мой затылок, ни шевеление кротов и полевок в корнях боярышника возле самой моей головы, ни его колючка, впившаяся мне в щеку и впивающаяся с каждым моим движением все глубже, все резче… Марина бьет кулаком мне в бровь, и я, пришибленный, замираю.
— Ты куда-то опаздываешь? — голос ее зол, она глядит мне снизу прямо в глаза, недолго молчит и немного добреет: — Не спеши.
Я и не спешу.
Когда спешить уже некуда, слышу ее совсем подобревший голос: «Дженькуе, пан», кричу, когда она зубами вдруг выдергивает крепко засевшую во мне колючку боярышника, и плачу, когда ее язык и ее губы смывают мою кровь с моей щеки.
Солнце еще высоко. Объятый желтым послеполуденным пламенем воздух опаляет пересохшие бронхи. Серафиму некуда спешить по такой жаре. Он долго топчется на углу Подставы и Керамзитовой, не решаясь сделать первый шаг. По Подставе пойдешь — к себе попадешь: к реке и за реку, через весь город, в деревянный дом на когда-то садовой окраине, зажатый ныне с трех сторон оградой радиозавода, гаражами с пустыми голубятнями на крышах и крутой насыпью шоссе союзного значения. В холодильнике — вчерашняя картошка с луком и тушенкой, старый рассольник, если не скис, немного карабахского портвейна и, если не скисла, сметана. Пока поешь, пока потом все помоешь, там, глядишь, и вечер настал: по телевизору футбол; у «Зенита» никаких шансов; можно и не включать. Лучше включить проигрыватель «Аккорд», опустить иглу на долгоиграющую липкую пластинку, при первых же звуках гибели богов взволноваться, зашагать из угла в угол, прогревая слух, пробуя на зуб эти звуки, и, в который раз удостоверясь в их правдивости, опять задуматься о смысле и следствии того, что звучит. Потом устать, прилечь на отцовский диван возле пахнущей холодной золой голландской печки, мигом уснуть, проснуться среди ночи от случайной, посторонней, как соринка, попавшей в сон, наяву и вовсе не нужной мысли: о прачечной, например, о передовой статье в областной партийной газете, хуже, если о давней, ничтожной, какой-нибудь давно пережитой обиде, причиненной кем-то таким, чье лицо или имя уже и не вспомнишь; потом не знать, как уснуть вновь или чем до утра забыться.
Дома хорошо, да путь к нему по жаре неблизок: пять раз вспотеешь, пока добредешь до Белы Куна; там — полегче: идешь под горочку к реке, и легкий ее ветерок обдувает лицо… Но ведь и люди обычно идут навстречу: улыбайся им, здоровайся, тереби за вихры их притворно и потому противно вежливых детей, делай в меру смиренное, в меру высокомерное, уже не только тебе, но и самому себе надоевшее лицо при обязательной, как микстура, и всеобщей, как фольклор, неизбежной тираде: «Хорошо помню вашего отца. Удивительно, до чего вы на него похожи; я имею в виду не все, но глаза. И маму вашу, Розу Расуловну, удивительно, но никак забыть не могу! Я ведь уже говорил (говорила) вам, что я у них (училась) учился?»…
Надо бы осмелеть хоть раз и, не делая вообще никакого лица, полюбопытствовать, как возможно было учиться у них, если они преподавали в разных школах: отец — в седьмой, у реки, а мать — здесь неподалеку, в вечерней школе железнодорожников… Просто спросить и, не дожидаясь ответа, проследовать дальше, вниз по бульвару, под горочку к набережной, без малейшей зависти поглядывая вниз, на умятые и слипшиеся, как монпансье в горячей жмене, голые тела городского пляжа. Потом подняться на мост. Идти по нему легко. Ветер мгновенно сносит с моста бензиновый или дизельный перегар и, лишь очистившись, позволяет себя вдохнуть. Страшновато бывает, когда въезжает на мост какой-нибудь слишком тяжелый трейлер или тягач; мост дрожит, и колени дрожат, выдавая самое нелюбимое из многих твоих нелюбимых чувств — чувство неустойчивости; и все же мост — не самый худший отрезок пути. Худший — Заплавье: гул и гарь прямого, как само отчаяние, Пролетарского проспекта; штукатурка вытянутых в две линии кирпичных бараков, ни в какое время дня не отбрасывающих тени, зато темных, как тени, с наступлением ночи; вонючие липкие лужи возле закрытых с полудня пивных ларьков, пустые витрины трех гастрономов, двух аптек и одной парикмахерской, — раз десять взмокнешь, высохнешь и опять вспотеешь, пока доберешься до родимой окраины, до тупиков и проулков промзоны и, мимо кузнечного производства, где бухает, бьет и вздыхает, убивая душу и барабанные перепонки, неустанный молот экскаваторного завода, наконец устремишься, собрав последние силы, к белой и желанной, как линия морского прибоя, бетонной ограде радиозавода, а там уж и рукой подать.
В шестьдесят четвертом году, когда в яблоневых садах заухали топоры, зазвенели бензопилы, взревели бульдозеры, раскатывая по бревнышку старые срубы, когда кругом затрещали костры из дранки, досок, ставен, сундуков, матрасов и прочей домашней рухляди, когда сгрудились тут и сям по всей обезлюдевшей, разоренной окраине землеройные, долбильные, грузоподъемные машины, взялись рыть рвы и котлованы, громоздить горы глины, щебня и крутую насыпь шоссе, — отец отказался от предложенной ему квартиры с эркером на бульваре Белы Куна, отстоял свой дом и был не прав. Как сказал бы, надо думать, будь он жив, великий Плетенев: если дорог тебе твой текст, перво-наперво спасай контекст, хотя бы часть его, хотя бы несколько садов за твоим окном, а не смог — будь храбр, уступи: начни с новой строки, не суть важно какой, да и не важно где, хотя бы и на Белы Куна, — все равно это будет твоя строка… Что же теперь? Скоро два года, как В. В. пребывает в иных садах; тень его бродит в тени теней его любимых яблонь, срубленных под корень в шестьдесят четвертом году; и Розы Расуловны давно нет на этом свете. Дом теперь твой. Затерянный среди глухо огороженных, нежилых бетонных громад и железных коробок, он весь дрожит подобно кустику или полуживому пучку травы всякий раз, когда высоко над ним, по упругой насыпи шоссе союзного значения с надсадным ревом прокатывается тяжело нагруженный самосвал.