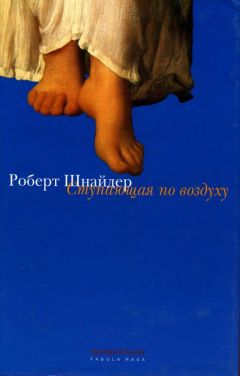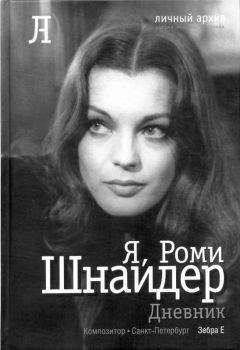Дикция могущественного теледеятеля отражает всю тяжесть его ответственной миссии.
— Это я те грю. Ты пол?
— Понял, господин генеральный.
Однако круг телезрителей тоже небывало расширился. «Тат» и «Варе Тат» посвящали истории с так называемой телебандой язвительные статьи, памфлеты и карикатуры. Константин Изюмов организовал читательский форум, участникам которого предоставлялась возможность домыслить продолжение загадочных событий. Целые классы школьников включались в состязание за право обладания главным призом — годовой подпиской на газету «Тат». Враждование обеих газет с местным телевидением имело давнюю историю, что в общем-то в порядке вещей. Устное и письменное слово никогда не шли в одной упряжке. Но реальность оказалась намного страшнее, а последовавшие потом гневные отповеди генерального режиссера мы вынуждены здесь опустить, дабы не бросить тень на позитивный опыт межчеловеческих отношений.
Катастрофа разразилась вечером 24 мая. Нежные летние ветерки обдували здание телестудии, и Реж и фрау Пфандль не могли себе простить, что до сих пор держали двухместный велосипед в холодном гараже. На работу они отправились на велосипеде. Они нарочно покружили по городу, так как всякая популярная личность не лишает себя наслаждения быть узнанной на улице, хотя при этом со скучающим видом смотрит куда-то в пространство. Возле мороженицы Густля, у самого старого в городе здания, Пфандль страшно захотелось фруктового мороженого; обуреваемый любовью режиссер чересчур лихо соскочил с велосипеда и вывихнул ногу, однако, стиснув зубы, он все же принес своей сластене то, чего она жаждала. В тот вечер всё млело от блаженства, кроме ноги Режа. Подойдя к телепередающему устройству, они все подшучивали друг над дружкой и сожалели о том, что число зрителей сократилось, — телебанда, казалось, ушла в глубокое подполье. За весь месяц почта и в самом деле не удивила ничем интересным, во всяком случае не было ни одного голубого конверта.
— В сущности, это даже досадно, — посетовал он. — Призрак стал уже чем-то своим.
— Да, очень досадно, — подтвердила она и смачно чмокнула любимого, поделившись с ним яркостью губ.
Жизнь жестока — эта банальность здесь жестокая истина. Жизнь несправедлива — этот трюизм тоже нашел свое подтверждение.
Грим преобразил и натуру, руки обоих уже просто не могли разъединиться, они сплетались, сцеплялись пальцами, утопали друг в друге, лелея бесконечное касание. И режиссер признался гримерше, что не хочет больше помыкать людьми. Любовь сделала его добрым.
Примерно на четвертой минуте случилось нечто непредсказуемое. Чего избежать не помогли ни заготовленный текст телеподсказчика, ни размашистые жесты видеорежиссера, ни крупные слезы на лице, которое напоминало кому-то никелированную сковороду.
В затхлой квартире на Маттейштрассе, 157/12, в ее вечных сумерках, безвылазно сидел Бойе Бирке, пораженный своим любовным недугом, и смотрел телевизор. Он забыл, когда в последний раз мылся, и по засаленным волосам пробегали отблески голубого электронного света. Бойе был истощен до такой степени, что на месте щек темнели впадины, он захирел телом и душой, и только в глазах остался обжигающий чудовищный жар. Глаза выражали ярость и бессилие, глаза-магниты. Сегодня вечером он сломит волю человека, который отнял у него возлюбленную, его Анну. Теперь он овладеет мыслями недруга, и слова этого человека будут его словами. Лицо Бойе потемнело и совсем стерлось сумраком. Он почувствовал колотье в легких, и ему показалось, что череп вот-вот взорвется от боли. Но человек начал говорить так, как он того хотел, пусть это и будет стоить ему жизни.
После звуковой заставки последовал краткий анонс основных сообщений и милый сердцу возглас: «Приветствуем всех вас в долине Рейна!», что ежедневно покоряло современника, независимо от того, хотел ли он ответить приветом или нет. Пошла первая информация. Говорилось о ежегодном выгоне скота на горные пастбища, о тех опасностях, которым подвергаются стада на дорогах с движущимся транспортом. Сюжет завершился сообщением уполномоченного по охране окружающей среды д-ра Ибро Долича о том, что экскременты наших буренок абсолютно безупречны в экологическом отношении. А губы Режа уже напряглись, изготовившись произнести следующий текст.
— Аллергикам, дамы и господа, приходится особенно худо в эту пору буйного цветения. Только что, спеша в студию на своем велосипеде, я встретил по дороге по крайней мере двух человек, страдающих сенной лихорадкой.
И, ничуть не меняя интонации, он продолжал:
— Всем вам я должен сегодня признаться: я — отъявленный мерзавец, жалкое ничтожество, самый гнусный субъект из всех, кого когда-либо носила наша земля. Да, я признаюсь в том, что, чиня дикий произвол, уволил чудесную, несравненную, божественную и самую очаровательную телеведущую Анну Марию Шпигель. Я знаю, уважаемые телезрители, вы тоже не в силах забыть эту эльфу. Вот и я не могу. Как вы знаете, блеск ее славы достиг Альгейских далей и восточной Швейцарии, всех уголков, где только можно принимать наш телесигнал. И участь этой нежной, чувствительной девушки на моей подлой совести. Я, негодяй, пресытился ее присутствием и позарился на другую. На Михаэлу Пфандль, у которой, по правде говоря, сковорода на плечах. Давайте будем честными друг с другом…
У фрау Пфандль сердце упало. То же самое произошло с оператором, техниками, дежурными за режиссерским пультом.
— Но клянусь всем вам — не сойти мне с этого места — я незамедлительно верну на ваши экраны фройляйн Шпигель. А тебя, Анна, заклинаю всей силой души: если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее!
Словно в полном параличе, замерла вся 4-я студия. Головы опустели, руки отказывали. А лицо бормочущего свой бред режиссера было краснее вареного рака, губы же посинели. С кончика носа капал пот, и, дыша как загнанная лошадь, он рвался к финалу своей речи, будто участвовал в забеге, где ставкой была сама жизнь.
— В этой связи для меня важно указать еще на кое-какие трещины в жизни нашего края. Мужчины Рейнской долины! Что знаете вы о любви?..
Но вот наконец дежурному режиссеру удалось остановить это безумие. Он нашел нужные кнопки, кто-то отключил регулятор звука, и на экранах появилась заставка, обещавшая: Возобновление передачи через несколько минут. Тут вне программы был запущен сюжет о водном празднике на Боденском озере. Потом показали интервью с пожилым тенором, который уже 3153 раза пропел партию Тамино[36], но на самом-то деле никогда не любил эту роль. Героическое амплуа всегда было не для него.
А в комнате, пропахшей неряшливой бедностью, парился в зимнем свитере Бойе, одет он был явно не по сезону. Он ревел, визжал, кричал, он чувствовал, как у него с треском горят волосы, а глаза вытекают. Пот ручьями катился по скулам. Свет. Свет страшнее солнца. Затяжная режущая боль в животе. И голова великана опущена, чтобы не пробить потолок. Время течет, опережая время. Всякая дума — давняя выдумка. Бойе падает, вокруг все темнеет, он осматривает руки, а руки перекушены, и черная вода ползет по запястьям. Он выскакивает вон и бежит, бежит, бежит.
Той же ночью Анна Шпигель была арестована двумя полицейскими в квартире подмастерья Эльмара Кулау. Ее подозревали в том, что она верховодит телебандой. Бывшая сотрудница студии, она, как рассудили в полиции, располагала сведениями о техническом оснащении и особенностях местной телепередающей станции. Господин Строппа, должно быть, вдоволь насмотревшийся фильмов с участием Лино Вентуры, орал на девушку, направлял ей в белое как снег лицо свет лампы на гибком штативе и, дымя сигаретой, уверял, что ему торопиться некуда, он может ждать всю ночь. Анна неуемно плакала и, чувствуя полную беспомощность, требовала своего адвоката. Нет, она должна ему, Строппе, сейчас же, черт побери, признаться, что охмуряла режиссера каким-то наркотиком. Ордер на обыск квартиры уже выписан. Пусть не держит его за идиота. Анна настаивала на разговоре с адвокатом. Строппа, кося под Лино Вентуру, с усталой улыбкой придвинул телефонный аппарат, но она вынуждена была сознаться, что у нее нет никакого адвоката. Тогда он извлек сигарету из пачки «Голуаз» и закурил, а затем из тактических соображений в течение получаса хранил чугунное молчание.
И той же ночью Реж в восьмой раз пытался заползти под одеяло к Михаэле Пфандль. Наконец смертельно оскорбленная подруга позволила ему сделать это. Душевная боль не знала границ, и оба они горько рыдали на разных краях кровати. Ведь они слишком хорошо понимали: прошло то время, когда на них с завистью поглядывали на улицах, и разумнее всего воздержаться от поездок на велосипеде.