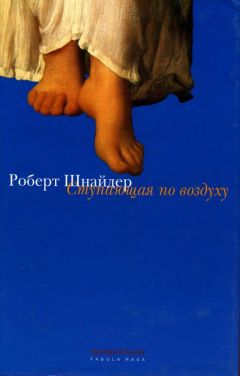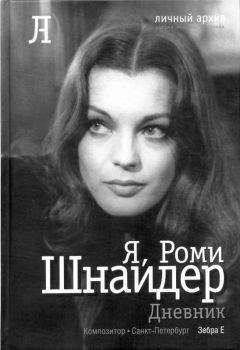— Харальд, ты совсем не сечешь? У Сони был тот же врожденный порок, что и у Мауди. У нее не было матки. И при вскрытии пришли к точно такому же заключению, что и в случае с Мауди. А теперь вот это фото… Ты точно видел, как Мауди ребенком налетала на людей, со своими объятиями и поцелуями. Это было здесь, в этом ресторане. Соня, как говорили, стала обнимать совершенно незнакомых людей. Она потеряла всякое чувство дистанции. Господи, Харальд… Тогда… была не Мауди. СОНЯ ЖИВА!!
Крик Изюмова заставил на время умолкнуть тех, кто разговаривал за соседними столами. Все повернули головы в сторону обоих мужчин, потом вновь заговорили и забренчали ножами и вилками. Изюмов виновато посмотрел на Харальда и перешел на шепот.
— Харальд… Соня — не человек… Соня — ангел. И когда тело этого ангела стало свободным, оно отыскало Мауди.
— Тебе водка размягчила мозги. Как всякому русскому.
— Я знаю, в глубине души ты во что-то веришь.
— Да, потому что иногда куда как приятно поупражняться в скромности.
— А как же твоя теория материализации ангелов?
— Ангелы не имеют бытия. Они не материализуются. Они — беспредельный, невыносимый и невыразимый дух.
— Но они сопровождают нас в пути. Как написано в Книге Товита.
Рауль отважился на второй заход, попытка оказалась удачной. Оба клиента принялись за еду. Изюмов говорил торопливо и много. А Харальд становился все задумчивее. Какая-то мысль захватила его, все глубже врезаясь в мозг. За окном глухо гремела далекая гроза. Через полчаса по крышам запрыгали капли первого летнего ливня. Харальд расплатился и, как всегда, щедро до неприличия дал на чай. Почти вдвое больше, чем стоил их заказ. И вновь его прощальным жестом была манипуляция с портретом матушки Гуэрри. Но на сей раз выдержка и смирение изменили сицилийцу. Он бросился было на Харальда с готовыми к бою кулаками. Но Рауль оказался проворнее, он перегородил путь хозяину и на пределе сил удержал его. Тот проклинал Харальда, разрядив ему в спину обойму сицилийских ругательств, плевал ему вслед и наконец заплакал. В «Галло неро» стало необычайно тихо. Харальд усталым шагом двигался к выходу и, пройдя мимо мерцающей огоньками «Мадонны» из Лурда, минуя гирлянды тряпичных подсолнухов, вышел на улицу. Они решили укрыться в нише какого-то портала, чтобы переждать хлещущий дождь. У Изюмова опять начался приступ сырого кашля, он издал что-то похожее на хриплый лай. Харальд не замедлил с предложением подлечиться летом в Рапалло. Морской воздух безусловно пойдет на пользу ослабевшим легким. А возможно, и подлечит русскую душу. Изюмов униженно, как нищий, благодарил. Харальд смаковал миг наслаждения, стоя рядом с человеком, который, несомненно, мучился безумной и несчастной любовью к нему. Однако охота думать про это быстро прошла. Они расстались и различными путями двинулись навстречу своей ночи.
Харальд сел в свой белый «тандерберд» и поехал в сторону Елеонской. Он включил музыку и начал фальцетом подпевать оперной примадонне, исполнявшей арию Лю[38]. И вдруг ему почему-то расхотелось ехать домой. Он развернулся и поехал вверх, снова в центр города, потом немного под гору и дальше — вдоль Маттейштрассе. Он прибавил звук магнитофона, а мысли его неотступно занимал Константин Изюмов.
Вроде бы бесцельно колесил Харальд по омываемому дождем городу. Казалось, он повинуется какому-то предчувствию, не зная, куда оно заведет. Как же давно он испытывал нечто подобное. Бесцельную тоску по тому, чего еще никогда не видел. Ведь он думал, что повидал уже все. Веру в то, чего не было, но что вскоре могло свершиться. И он вдруг почувствовал, что рулем владеет какая-то другая сила. Он снизил скорость так, что двигался теперь не быстрее пешехода, и, напрягая зрение, начал обшаривать взглядом все, что проплывало по обе стороны от машины. Белый «тандерберд» полз по шоссе, нареченному в честь библейского Заведея, до самой окраины. Тут он остановился, не выключая мотора, в ожидании момента, когда эта странная сила станет поуступчивее. Затем заглушил двигатель, вышел из машины и прислушался к ночной тишине. Затем вернулся, сделал разворот, двинулся вверх по шоссе и тут увидел ее — Мауди Латур.
— Садись.
Она посмотрела на него, он не выдержал этого взгляда. Без единого вопроса она села в машину, он перегнулся, вытянул руку и захлопнул дверцу.
— Домой? — только и спросил он, скользнув взглядом по ее лицу.
Она кивнула. Ему казалось, что она стала тенью самой себя. Но тугие черные локоны были как волны жара, давали почувствовать всю необузданную мощь ее души. Он нажал на газ и поехал в сторону улицы Трех волхвов. В разговор не вступали. Время от времени Харальд боковым зрением пытался уловить и понять выражение ее лица. Он снова включил музыку, и Барбара Хендрикс вновь молила своим благородным голосом: «Signore, ascolta!»
— Теперь я знаю, кто хотел убить тебя, — спокойно произнес Харальд. — Я знаю твоего убийцу.
Он не спускал глаз с дороги и вдруг ощутил удары собственного пульса. Началось сильное сердцебиение, и он упивался им. Значит, он все-таки жив. И сердечный грохот все сильнее будоражил его, и в голове происходили неведомые химические процессы. Мысли разлетались брызгами, сбивались в облака; всплывали и лопались какие-то фантасмагории.
— Ты умеешь хранить тайну? — спросил он с такой нежностью в голосе, словно впервые влюбился.
Мауди молчала, она почти перестала дышать.
— Я хочу, наконец, понять, что лежит за пределами нашего знания. Бессилие? Или избавление.
Они уже пересекли площадь Симона-Зилота, как неожиданно для себя он утопил педаль газа и какой-то миг колеса прокручивались на месте. С бешеной скоростью машина помчалась по переулкам, со свистом и визгом летя вниз к Роту. Там он свернул на улицу, переходящую в шоссе, выскочив на бесконечную прямую, которая вела на юго-запад. Автомобиль рассекал ночь, и Харальд включил музыку на полную мощность, динамик уже просто надрывался. Дождь окончательно прошел, полотно дороги просохло.
Фары высветили расплывчатый силуэт человека, быстро приобретавшего все более четкие очертания. Человек бежал, и машина стрелой летела к нему, а Лю изливала душу в стремительном крещендо. Автомобиль промчался по силуэту, и возникло впечатление, что по капоту шаркнуло какое-то тряпье. По откидной крыше застучали ветки, Харальд на секунду потерял управление, но в последний момент успел снова вывернуть на дорогу. Взвыли тормоза, Харальд дал задний ход, и вновь захрустели сучья. Он остановил машину, вновь врубил скорость, колеса бешено закрутились на месте. Черная студенистая влага забрызгала стекло дверцы с той стороны, где сидела Мауди, и опять как будто хрустнули ветки. Харальд подал машину назад, колеса взвизгнули, днище зацепило и потащило за собой что-то вроде тряпичного вороха. Харальд притормозил, потом поехал вперед, и хруст стих. Машина прокатилась по черной луже, потом вновь попятилась и вновь рванула вперед, Харальд еще раз дернул ее туда и обратно, и едкий запах резины пробился в кабину.
Потом он наконец отъехал, спокойно управляя автомобилем. А Мауди начала вдруг смеяться, и в этом смехе звучало такое отчаяние, что Харальду было трудно сосредоточиться на стуке своего сердца. На этом драгоценном биении.
Когда косноязычная женщина снова приехала из Линдау, ее удивила нетронутая еда в пластиковых судочках, которую она каждую неделю оставляла у двери сына. Однако она и на сей раз оставила ему очередную порцию и опустила в щель для почты непременную денежную купюру. На обратном пути она вдруг замедлила шаг, задумалась, улыбнулась и решила вернуться. Расправив подагрическими пальцами еще одну купюру, она и ее бросила в щель.
На утреннем небе в созвездии Большого Пса выделяется Сириус, и его свет сочится в зеленоватое марево. Который день уже не выпадает роса, поля побурели и выгорели, ручьи обнажили свои каменистые ложа, а Рейн, этот мужчина в соку, всегда гордо шагавший через долину, превратился в размазанную по ней тухлую лужу. Атмосферное давление не изменится — таков прогноз на ближайшие пять суток. Спад жары не предвидится. Лишь по вечерам неизменно появляется надежда: а вдруг далекая гроза, багровые зарницы которой видны с холмов Якоба, возьмет да завернет в пределы Якобсрота. Ночи душны, воды не хватает, как уже было однажды — летом 1978 года. Воздух сушит глотку, дышать тяжело.
Амрай не спит, ворочаясь с боку на бок в комнате, где раньше жила Марго. Вот уже девять лет прошло, говорит она про себя. После смерти матери она мучается хронической бессонницей. Или просто начинает сказываться возраст? Страх — как бы не проспать собственную кончину. Она переворачивает покрывало, чтобы оно касалось более прохладной стороной. Потом идет в ванную, встает под холодный душ, вновь ложится и читает биографию Симоны де Бовуар, восхищаясь этой женщиной. Амрай тянется к пульту телевизора, мысли скачут, и вскоре экран опять съеживается до маленькой белой точки, которая еще некоторое время продолжает гореть.