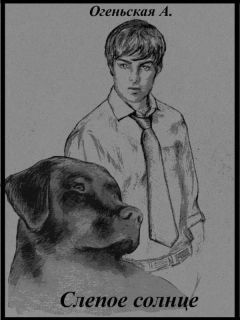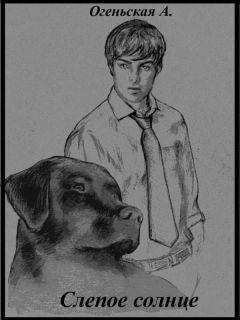В пересыльном фургоне генерала насилуют блатари; от боли ему помогает снег, на который он садится голым задом. За ним безучастно наблюдает эмгэбэшная охрана. Лица у охранников незлые, спокойные: все происходящее для них — в порядке вещей.
И почти тотчас фортуна поворачивается к нашему герою лицом: его вызывают к телу умирающего генералиссимуса. Спасти это дряблое, запачканное нечистотами тело уже нельзя («Хрусталев, машину!» — кричит ликующий Берия своему шоферу — так заканчивается один акт исторической драмы и начинается другой), но отныне он, вновь ставший «товарищем генералом», волен вернуться к прежним занятиям, прежнему образу жизни. Поздно, однако: он слишком много знает о том, как устроено «царство», и бежит «от всего», растворяясь в пространствах России. Это его такая «победа / Над временем и тяготеньем — / Пройти, чтоб не оставить следа, / Пройти, чтоб не оставить тени…».
Говорят — «уроки истории учат», обычно придавая этому суждению наклонение императива: должны учить. Есть, как известно, и противоположная точка зрения: «уроки истории ничему не учат». Истина — не только и, может быть, даже не столько между этими двумя крайними суждениями, сколько, так сказать, ниже их.
«Отличник» в своем роде, который «все, что было не с ним, помнит», — фигура редкая, если вообще возможная. Тяжеловато с таким грузом начинать жизненный путь. Для каждого нового поколения, вступающего на историческую сцену, забвение прошлого в большей или меньшей степени неизбежно и порою благотворно; даже крайняя, вызывающе безоглядная позиция: «Ничего — прежде меня» (Мария Башкирцева, кажется) может иметь свое психологическое оправдание. Ну а в идеале хорошо было бы соединять несоединимое: все помнить и одновременно как бы все забыть.
Реально, однако, все забыть невозможно. События истории, даже если они остаются неосмысленными, все равно западают в память, находя себе место в сумеречной сфере полу- и бессознательного. И так как это события коллективной жизни, то они становятся действующими силами коллективного бессознательного. «Сон» А. Германа, например, сугубо индивидуален, и в то же время он общезначим, поскольку пищу ему дали события коллективной жизни.
Мы (как народ) вступаем в новый век относительно налегке, если иметь в виду понимание связи времен (контраст с началом XX века: тогда царила убежденность в высокой прозрачности исторического процесса, откуда выводилась возможность его чисто рационального истолкования), но с тяжелым грузом, спрятанным в душевном «подполье». Как там что устроено, какие звери и в каком сочетании разгуливают, можно только догадываться, но в одном вряд ли позволительно усомниться, а именно в том, что «злой колдун», он же «властелин духов» (фигура коллективного бессознательного), спустивший их с цепи, имеет отношение к событию «великого террора». Или, точнее, событие «великого террора» придало «злому колдуну» новые, умноженные силы в его всегдашнем стремлении завладеть человеческим «я» и коллективным «мы».
Таким образом, событие это должно было оказать сильнейшее, возможно решающее, влияние на опыт поколений, которые о нем узнали. А чтобы узнать о нем, не обязательно было читать (или слышать по радио) «Архипелаг ГУЛАГ» и другие подобные вещи; какие-то обрывки соответствующей информации (зачастую взятые из тех же книг) могли заменить их по силе воздействия. Мне, например, при чтении «Архипелага» почему-то больше всего запал в память зек, на свободе бывший инженером, который научился «научно» обгладывать находимые где-то кости и принимать «оптимальные» позы, когда его начинали бить, из-за чего он также круглый год носил теплую, смягчающую удары одежду; думаю, что даже отдельные факты такого рода способны произвести революционизирующее действие на (под)сознание… И это информация, которая каким-то неисследимым образом передается «по наследству»; громадное распространение элементов блатного и мафиозного (полу)сознания среди молодых возрастов обязано ему далеко не в последнюю очередь.
Что-то подобное знает пословица: отцы терпкое поели, а у деток оскомина.
К.-Г. Юнг (у которого я взял вышеприведенные термины, относящиеся к коллективному бессознательному) писал, что все стремления человечества всегда были направлены на укрепление сознания — от размывающих его волн бессознательного. Следующий век не будет в этом смысле исключением. В частности, российская история века истекающего, чрезвычайно запутанная, темная, явится предметом длительного разбирательства, которое, наверное, растянется на целое столетие. Уроки ее в высшей степени поучительны, и хочется надеяться, что они будут усвоены — в той мере, в какой вообще могут быть усвоены уроки истории.
Старый месяц, говорят, Бог на звезды крошит — чтобы материал не пропадал и чтобы кое-какие памятки, вдобавок ко всем прочим, оставались.
Разумеется, уроки, о которых идет речь, — не только в уловлении причинно-следственных связей (хотя и это очень важно). Человек выше каузальности, он есть «свободный выполнитель своей темы» (о. Сергий Булгаков). И он призван одерживать победы «над временем и тяготеньем», другой вопрос — как. Многое тут зависит от «постановки» души. Каковая, естественно, совершается во времени. Мы, таким образом, возвращаемся в историю. Главное дело истории (не в смысле изучения прошлого, а в смысле чередования событий во времени) есть душестроительство. Равно как и душеразрушительство, конечно. Будут на этом «фронте» успехи первого рода — все остальное приложится.
Никита Елисеев
«К. р.», или Прощание с юностью
Объяснение заглавия
«К. р.». — значит короткие рассказы, каковых недавно набрали на две огромные антологии[41]. Почему «к. р.»? Ну, во-первых, «к. р.» — это звонко и научно: термин! Во-вторых, сокращение «к. р.» вызовет в памяти (должно вызвать!) другие «К. р.» — «Колымские рассказы», репрессированного за к. р. т. д. Варлама Шаламова. А мне только того и надо. (Зачем? Будет объяснено.) В-третьих, пусть нахлестом, наплывом вспомнится К. Р. (Константин Романов — поэт и драматург), который хотел заслужить признанье и любовь родного православного народа — не царской кровью, не благородством происхождения, но стихами и драмами. Пусть представится такая поучительная картинка: К. Р. за чтением «к. р.».
Прощание с юностью? Сейчас объясню. Я и сам во времена оны пытался «лепить» «к. р.». Я думал, что я один такой — умный и необычный. Новый Кафка, «еще один Хармс», выросший словно гриб после дождя… Как вдруг выяснилось, что нас эвон сколько… на тыщу (в общей сложности) страниц, а сколько осталось «за бортом»? И все лучше, чем я. (Хотя не так хорошо, как у Кафки… или у Хармса.) Представьте ситуацию: все то, что казалось мне «личным» (лишним), тайным, глубоко выстраданным, индивидуально придуманным, штучным и самодельным, было, оказывается, широко распространенным явлением в среде того поколения и того социального слоя, к которому принадлежал я. Это было не штучно, а «серийно». «Марш одиноких» — вот как назвал схожую ситуацию Сергей Довлатов.
Удача (или удачливость) Сергея Довлатова как раз тем и определилась, что он понял, как легко лепить фантасмагории про «летающих полковников», чудаков, разгуливающих по проводам, — и круто повернул к «жизнеподобному» искусству. От «магического реализма» к «нон-фикшн» — поучительная траектория. «Магам» и «мистикам», «кафкам» и «хармсам» волноваться не следует. Мы жили и живем в фантастическом обществе. В наших «нон-фикшн» «жизнеподобия» не получится. Скорее даже так: как раз в наших-то «нон-фикшн» жизнеподобия-то и не получится.
Но я сейчас о другом. О том странном ощущении конца эпохи? мира, с которым был связан? Да — о прощании с юностью.
«К. р.» не желают иметь с реальностью ничего общего. Полное пренебрежение окружающим миром. Отчаянное доказательство парадоксального тезиса: можно жить в обществе — и быть свободным от общества. Я — бог в своем мире. Хочу, чтобы мой герой поймал рукой звезду, — поймает (А. Андреев, «Евсеев и звезда»). Хочу, чтобы эта звезда была вкручена в пустой патрон вместо лампочки и светила бы у главного героя в сортире, — будет светить! Что неподвластно мне? Как некий демон, отселе править миром я могу! Вот это писательское всевластие и заставляет этак… гм-гм… по-марксистски вглядеться в социальные корни «к. р.». Ума большого не надобно, чтобы сообразить: писательское всевластие впрямую, вплотную связано с полным и плотным человеческим, гражданским, политическим бессилием. И это так естественно, так понятно для моего поколения, для людей, выросших в обществе, построенном утопистами, то есть в стране антиутопии… Парадокс, до которого Бердяев додумался: самое страшное в утопиях то, что они сбываются, — был для этого поколения даже не аксиомой, но трюизмом, пошлостью. Гораздо интереснее смотрелся бы такой выверт: «Самое страшное в утопиях то, что они, сбываясь, не сбываются и сбываются, не сбываясь».