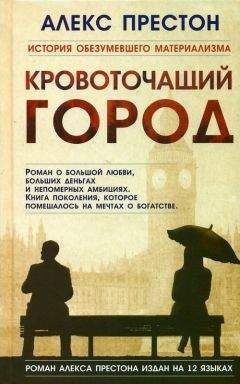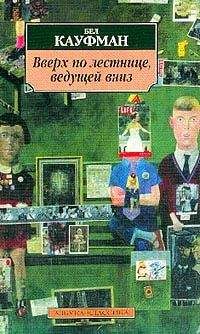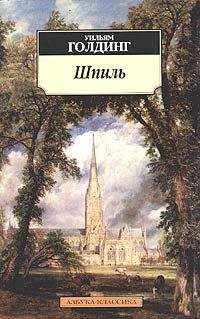— Пора.
— Ты уверена? Может, ложные схватки?
— Я так не думаю. Да, да, это оно.
Я мчался на машине по темным улицам, пролетал на красный свет под уличными видеокамерами. Я спешил к Веро. Она терпеливо ждала у двери. Сумка с вещами была уже собрана. На лице у нее застыло выражение безмятежного спокойствия. Мы неторопливо поехали в больницу, разговаривая о том, как у кого прошел день. Я видел, что она в ужасе.
Потом — ожидание. Я сидел возле ее кровати в палате и ждал. Налил ей витаминизированного напитка, покормил виноградом, сбегал за журналом и почитал вслух, я массировал ей ступни и терпел, когда она сжимала мои руки так, что побелевшие пальцы ломило. И все это время на мониторе трепыхался сердечный ритм. Вместо того чтобы ассоциироваться с новой жизнью, он напоминал шелест вентилятора, отчаянно пытающегося закачать воздух в отказывающие легкие. Я не сводил глаз с монитора. Следил за тем, как он то слабеет, то набирает силу. Пульс достигал 150, 160, и я чувствовал, как мое собственное сердце бьется в унисон. Акушерки приходили и уходили. Я сидел рядом с Веро, когда она вдыхала газ и воздух, сжимала мою руку, кричала, дергалась, подтягивала к животу колени и стонала, и говорила, что больше не может, и снова вдыхала газ и воздух. Сильные схватки начались в пять. Веро сидела прямо, с маской на лице, и трогала спину, чтобы убедиться, что эпидуральный катетер все еще на месте. Она молчала, ее лицо было искажено гримасой боли, и я видел, что сердцебиение ребенка усилилось. Вошла акушерка, посмотрела на монитор, потом на свои часы. Лицо ее помрачнело, когда она увидела, что пульс подскочил до 200 и даже выше.
Я запаниковал. Веро поперхнулась сквозь стиснутые зубы.
— Что происходит? Что это за звук? Пусть он перестанет!
— Все в порядке. Это схватки. Не беспокойтесь. Все хорошо.
Акушерка вышла из палаты, когда схватки прекратились. Веро откинулась на спину. Руки подрагивали, на ладонях, там, где она впилась в них ногтями, выступила кровь. Я смотрел на монитор. Пульс упал до нормального, затем вообще исчез. Прозвенела сирена, и в палате появился врач в сопровождении акушерки. Я услышал, как она пробормотала: «Замедление». Мне сунули стопку бланков. Не зная, что делать, и чувствуя полную свою беспомощность, я повернулся к Веро. Она смотрела на меня испуганными глазами.
— Почему теперь тихо? Где звук? Помоги, Чарли. Помоги мне!
Я ненавидел тот звук, но тишина, прерываемая завыванием сирены, была намного хуже. Я подписал бланки, и Веро выкатили на каталке из палаты. Акушерка протянула мне зеленый бумажный халат, и я надел его, пока мы шли по пустынным коридорам с галогенными лампами. Казалось, я иду ко дну. Веро постоянно спрашивала, что происходит, и я держал ее за руку, пока мы проходили одни за другими открывающиеся в обе стороны двери, а затем оказались, наконец, в операционной.
Когда родился Люка, Веро повернулась ко мне и сказала:
— Мы назовем его Люка, как в той песне.[37]
Когда родился Люка, хирург прикрепил к его ручонкам большие металлические зажимы, совсем как супергерою из комиксов, и они сияли в ярком резком свете.
Когда Люка родился, я одел его под радиационным обогревателем, засовывая синеватые ножки в белые ползунки. Он открыл глазки, которые тоже были ярко-синими, незрячими и пугающими.
Я сел, Веро прижала его к себе. Он начал хныкать, издавая нечеловеческие, гортанные звуки. Хирург пока не появлялся, но я видел, как синюшные конечности медленно розовеют. Я испытал огромное облегчение от того, что Веро осталась жива. До всего остального мне не было дела. Она лежала вся желтая, и руки у нее дрожали. Когда я потянулся за малышом, чтобы забрать его, Веро повернулась на бок, и ее вырвало. Поток ярко-оранжевой жижи хлынул на пол, она прижала руки к животу, и ее снова вырвало.
Я сидел с ними обоими, пока они спали, и плакал. Он плохо ел. Грудь Веро сморщилась, а желтизна добралась до глаз. Она смотрела на меня желтыми глазами, и слезы катились по ее лицу. Малыш издавал сердитые писклявые крики, и она совала залитый слезами сосок ему в рот, и он сосал и кусал его своими красными деснами, но молоко не шло. Акушерка качала головой, и Веро наконец взяла у нее бутылочку и поднесла к его рту, и он высосал ее досуха и заснул рядом.
Веро повернулась к нему спиной и, держась за живот, разрыдалась.
— Больно. Болит живот. Ужасно болит.
В восемь часов вечера акушерки заставили меня уйти. Младенец снова плакал и не хотел брать бутылочку. Веро лежала все так же, отвернувшись от него, плечи тряслись, и рыдания вырывались из груди вместе с дыханием. Мне бы следовало настоять, чтобы пришел врач, потребовать, чтобы мне разрешили остаться. Но акушерки вытолкали меня грубыми ручищами, и я чувствовал себя папашей-невротиком, не способным общаться с добрым женским миром. Я шел по коридорам, постоянно слыша испуганные крики, которые преследовали меня до машины, до самого дома. Я сидел в пабе до закрытия и просматривал эсэмэски на своем «блэкберри». Бхавин прислал кучу многостраничных инструкций, торговых рекомендаций и несколько тревожных сообщений с просьбой перезвонить. Я отвечал односложно. Мне не хотелось рассказывать ему о рождении сына, не хотелось, чтобы кто-то вообще узнал об этом прежде, чем я удостоверюсь в том, что все нормально.
Охранник на входе не пожелал меня впускать до семи часов утра, и я расхаживал по пустынному тротуару, наблюдал за машинами, проезжающими по темным улицам, и курил сигарету за сигаретой. Когда я наконец вошел в палату, кровать Веро была пуста. Я схватил акушерку за локоть, и ее рука напряглась.
Акушерка проводила меня дальше по коридору, до лифта, так и не сказав, что случилось. Их перевели в другую палату. Ее не было, когда это случилось. Я стоял в громыхающей кабине лифта и чувствовал, что сердце готово выпрыгнуть из груди. Веро подключили к целой батарее каких-то приборов. Малыш лежал на койке по другую сторону ширмы. Веро сидела и смотрела, как он спит. Он выглядел совсем крошечным, как будто уменьшился с того времени, когда я увидел его в первый раз. Я наблюдал за тем, как вздымается и опускается во сне его грудка. Веро грустно улыбнулась.
— Я болею, — сообщила она. — Подхватила что-то в больнице. Но поправлюсь. Малыш тоже заболел. Мы оба больны. Тебя, наверно, не надо было пускать к нам. Бедняжка всю ночь плакал и кричал, и это было что-то жуткое. Ох, Чарли, все совсем не так, как я надеялась.
Она заплакала, и я осторожно просунул руку сквозь пучок трубок и сжал ее пальцы.
Веро и Люка вернулись домой через неделю. Желтизна не прошла, малыш постоянно плакал. Пока они находились в больнице, я вышел на работу. Я каждый час отправлял эсэмэски, и на столе у меня стояла фотография крошечного создания в чистой стерильной детской кроватке. Прежде чем поехать за ними в больницу, я сообщил Бхавину, что беру отпуск по уходу за ребенком. Потом пристегнул переноску с малюткой всеми ремнями и медленно поехал домой.
Следующие несколько недель стали сущим адом. Малыш плакал ночами напролет, а Веро недоставало сил, чтобы заниматься им. Она спала по двадцать часов в сутки, поднимала голову, чтобы проглотить немного супа, он стекал по подбородку и оставлял пятна на простынях. Я держал ее одной рукой, другой прижимая к себе ребенка. Остановить плач удавалось лишь тогда, когда я спускался и поднимался по лестнице, крепко прижимая его к себе. Я смотрел телевизор с ребенком на руках. Танцевал по кухне с ребенком на руках. Я засовывал ему в рот бутылочку с детским питанием и кормил то слишком обильно, то недостаточно и постоянно заглядывал в разложенные повсюду открытые книги, пытаясь следовать зачастую противоречивым советам. Вот только заставить себя мыть бутылочки не мог — просто ходил каждое утро в аптеку и покупал новые, а лицо младенца на морозе пунцовело.
Когда он слишком сильно плакал, я клал его в переноску и ездил на машине по темным зимним улицам, включая громко радио, чтобы заглушить крики. По вечерам в воскресенье я слушал сердитые ток-шоу и полуночные передачи, адресованные несчастным и разочарованным, и жал на газ, выскакивая на волне их гнева на автотрассу, где Люка в конце концов засыпал. Я днями, не меняя, носил одну и ту же одежду, отбивался от угрожавших визитом родителей, устало плакался по телефону Генри, который не упоминал больше о нашей последней горькой встрече и был со мной добр и мил. Я держал Люку над Веро, пока она спала, смотрел на ее усталое желтое лицо и прижимал к своей щеке его нежную щечку. Мы ходили по комнате, когда он плакал и выгибался от боли в животе. Я клал ладони на его животик и массировал по часовой стрелке, пытаясь успокоить, и Веро просыпалась, тянулась к нему, и руки у нее дрожали, слезы бежали и по ее лицу, и по моему. А потом пришло Рождество.
На сочельник к нам нежданно приехала мать Веро вместе с Ги. Она забрала у меня плачущего младенца, и он внимательно посмотрел на нее, когда она нежно сунула бутылочку между его толстых губ. Ги поцеловал свою спящую сестру, раздел меня и уложил возле нее.