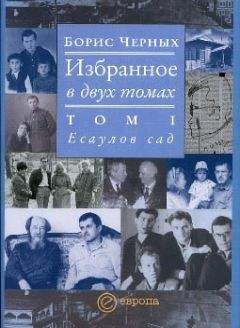Надо слепить статью о Сергее Лазо и отдать в «Молодежку».
Итоги по Лермонтову и прощание с давней любовью – курсовая по драматургии для Л. Получила пять, прощальный поцелуй под дождем.
«Яблоко на троих». Сцена с китайцами.
«Деканы приходят и уходят, а глупость остается». Петров.
Има Сумак – пленительный дух. Устами ее кричит время.
Лекции и семинары. Андрей, болезни, страх за Андрея. Ясли. Дрова… Снова остоебенил гражданский процесс. Нет времени доедать тысячи по английскому.
13 декабря.
Село Урик. Могила декабриста Муравьева – отхожее место. Церковь, построенная на их деньги, превращена в мехцех, трактора прямо въезжают в нее. Кругом мазут. И отборный мат мужиков.
Знакомство, затем гостевание у Кима Балкова, бурят с филфака.
И увести бы за кулисы, и руки целовать и грудь, но слишком жесткие полисы, чтобы презрел их кто-нибудь.
Копейки в районной газете «Ленинские заветы». «Юнкер Корецкий» в университетской газете – не платят, увы.
Зачем учится на юридическом маленький саха Катыгинский? – Чтобы во зло естеству стать чиновником в своем нечиночном народе, брать взятки и спиваться. В узких его глазах оленья тоска.
Дрова, вода. Снова болеет Андрей.
Боже мой, какая претенциозность – город Свободный. Но я люблю этот город и не могу без него.
По заданию «Советской молодежи» в школе. Юная Нелли на уроке по «Слову о полку Игореве». В красивых ее глазах пустота и голод по мужчине. Ну что от нее могут узнать ребята?
Ник. Янкин. Коммунист. Левая фраза, не подкрепленная убеждением, вычитанная, но вычитанная не у Маркса и не у Ленина, а в областной газете. Демагог. Учится на юридическом, чтобы сделать карьеру, далеко не пойдет, но чиновником будет образцовым. Когда он был мальчиком, его так же как и меня любила мама.
Гейкер, будучи на практике, за взятку закрыл уголовное дело. Рано начал.
Разговор с Корой о Чацком: «Чацкий пострадал за справедливость», – сказала Кора, мне не оставалось ничего другого, как молча улыбнуться.
Родина. Военная база Амурской флотилии Малая Сазанка. На ущербе лето. В летнем театре кино – «Мертвые души», по Гоголю. В офицерском клубе танцы. Терпкая дикая яблоня. Герой Советского Союза капитан первого ранга Воронков, «батя» – начальник базы. Японская компания. Фланелевые рубахи матросов, они уходят на кораблях, мы им машем, девчата плачут. Играет духовой оркестр, дирижирует матрос в роскошных брюках клеш. И канонерская лодка, флагманская, быстро по течению уносит любимых.
Столкновение на школьном дворе. Меня привели в первый класс, один длинноногий, настырничает, я ударяю его в скулу и пугаюсь. Потом мы знакомимся – Владимир Сергеев. Потом играем в одной команде, мы чемпионы города, даже чемпионы области. Его хотят отчислить из школы за раннюю любовь, лучше сказать – за женитьбу в 10 классе.
Озера Подгорное, Вербное и Жестянка. С гор лентой тянется туман. Тревожная листва. Затухающий костер, – запах родины.
Толстой А. К., Александр Блок. Козлов, вечерний звон. Тоска по иным краям. Так и суждено: томиться дома и желать возвращения домой, в маленький город.
Квартиранты. Кавалеристы-офицеры, после распутная женщина с детьми Колей и Валей, агроном Савруев, потом топографы – молодые лейтенанты. И Герины женихи – матросы и Саша Чернов, после военно-морского, весь продуманный.
Братья Корсаковы, борцы, – их дом через огород. С младшим приятельствую, старший ходит в черной шляпе, гигант, от него веет легендой, о нем и ходят легенды: в шляпе он ходит, чтобы уголовники знали и не лезли – он всех их уничтожит в схватке.
Соседка Маруся и пятеро детей. Когда они не слушались ее, она ложилась на пол и «умирала», вой затихал, она приоткрывала глаз и спрашивала: «Будете слушаться?» – «Будем». Через час снова бедлам. Маруська все делила немого Ивана с Шурой, тоже солдаткой. Немой работает грузчиком на товарной станции.
Казаков – бунински ясный и грустный талант.
Вадим разорил гнездо. Я лежу в траве и мне жалко, но не птиц, а Вадима – он плачет неутешно: его настыдила тетя Таля. Мне четыре года. Я еще и не догадываюсь, что скоро Вадим уйдет в армию и не вернется.
Мать берет меня на дежурство в гостиницу, я сплю под столом на рогожке.
Воспоминание. 9 мая 45 года. Белогорск. Почтальонша-девчушка. Мы с бабенькой в огороде. Бабенька не верит сообщению девчушки: победа, – не верит, но плачет и тискает меня.
Протасевич. Убогость духа. Поет песенки с эстрады. Но куда-то пойдет и он работать, и выслужится, наверно, до майора.
Зрение я испортил у керосиновой лампы и у заслонки печи. Когда керосина нет, я читал в шесть лет у печи. В первом классе стал слепнуть, меня выпроводили домой. Вот наказание – не читать совсем.
Христос был брюнетом. Танька с филфака.
От университетской газеты в селах: Горохово, Суйгуты, Быково.
Эти два часа ходьбы – через поля, мимо мокрого сада, по проселку и тракту пустынному. Думы о боге.
Асеев, бывший лейтенант погранвойск, ласковость ко мне. Он выручает меня, когда надо выпить и не хватает тройки, и огурца даст.
Что ни сторож – то философ.
Эти вечные войны залинейских и лазовцев, городских и окраинных изнурили нас и наше отрочество. В книги я спрятался от драк, в которых почти не участвовал. Пять библиотек в городе, я все их излазил полка за полкой. Боже, какую муру я читал, но рядом читал и много хорошего.
Пленные японцы грузят на страшном морозе уголь. Мы, пацаны, носим кипяток во флягах. Нам жалко японцев, и чего-то стыдно. Они умирают – мы не видим одного, потом второго. Бывшие офицеры командуют и здесь и не подпускают нас к солдатам. Но видно как они все тоскуют по дому – украдкой гладят нам вихры и что-то говорят хорошее. Мы приносим картошки, они пекут ее на костре, приплясывая: ноги стынут, на ногах у них деревянные ботинки, совсем летние.
Дневники Лазо: чистота тона. 27.9.1912. Кишинев. Вот я прихожу, Борис спит, я выпиваю немного вина, хочу писать, после 15-20 строк бросаю работу, сажусь на постели и думаю… Скажем, я поехал бы уездным врачом, мировым судьей в захолустный город. Что делал бы я? Я бы, во-первых, не растрачивал своих сил понапрасну, во-вторых, занимался бы своей службой, в третьих, занимался бы своей отдельной, обособленной жизнью, занимался бы философией, освежительной для моего ума, потому что, как мне кажется, ум является не средством, а целью жизни.
3. 1.14 г. Кишинев. Вечер прошел довольно тускло, я умудрился разбить какую-то фарфоровую куклу и часы, стоявшие на полке, к явному неудовольствию Надежды Дмитриевны. Я сидел рядом с Тасей. Я ей сам сказал: «Мы друг другу близки и далеки»… Она меня несколько раз поцеловала. Вот все. Да, мы далеки. Она далека мне по духу… Я пошел вверх по Подольской (пройдя Пушкинскую) и зашел в ресторанчик. Комната убогая. Два-три столика с обтрепанной белой клеенкой. Истертый пол, скудный прилавок. За прилавком официант с бледным лицом, с глубокими складками собравшейся кожи. Сбоку за столом как-то неуклюже сидел городовой. Он вытянул вперед ноги. Воротник его поднят и шапка нахлобучена на голову. Я подошел, выпил рюмочку рябиновой, съел несколько бутербродов с паштетом. Вошел человек, лицо его замерзшее выражало внутреннюю слабость. Он молча подошел, выпил стаканчик водки и что-то съел. Официант налил еще стаканчик и кивнул городовому; глаза городового оживились и заблестели, весь он встрепенулся, поерзал немного, как бы не веря такому удовольствию, потом мерно встал и, не снимая шапки, молча опрокинул стакан, закусил куском огурца с хлебом. С меня следовало… ушел. Под ногами скрипел снег. Сверху звезды. И у меня невольно напрашивалось сравнение между этим неуклюжим молодым городовым и Тасей. Я шел дальше. Мне было тепло. Даже жарко. Снег скрипел все сильнее и сильнее, а сверху блестело все то же звездное небо.
4. 1.14 г. «Такие (о матери) женщины представляют себе жизнь поразительно плоской, они всецело подчинены закону сохранения рода».
6. 1.14 г. «Вышел в гостиную, слушал партийные разговоры»…
1915 год. Москва. Февраль. «Мысль без цели гаснет и увядает».
3. 3.1915 г. О качественном и количественном познании или о широте и глубине его.
Когда личность, наше «я», появляется как слагаемое, состоящее из многих величин, когда у человека появляются осознанные убеждения, видное место здесь занимают книги, но не они создают убеждения. Убеждения – нечто более важное, более значительное, я не говорю более трудное – чем знания. Они, и только они, делают нашу личность самобытной и цельной… Убеждения нужно выстрадать, нужно проверить их жизнеспособность, нужно обтереть их о чужие убеждения. Никогда не лезть к другим с открытием своих убеждений. Нужно не сразу высказывать свою точку зрения на тот или иной предмет. Ни с того, ни с сего отрезать, что я, мол, социалист или кантианец, – это глупо.
Нечего огорчаться тем, что ты в молодости не успел высказать тех или иных взглядов, когда вокруг… У нас в России слишком торопятся в молодости, так сказать, выкраситься в тот или иной цвет, и слишком скоро остывают молодые порывы. Перед моими глазами всегда пример деятелей Англии, которые с годами становились все более и более радикальных убеждений. В убеждении нужно ценить стойкость; немудрено говорить красные слова, но гораздо труднее, чтобы убеждения впитались в человека, как сок в растение. Если у растения высушить сок, оно погибнет, и человек должен скорее пойти на гибель, нежели отказаться от своих убеждений. Но, по-моему, в молодости нечего идти напролом, часто это носит чересчур бутафорский характер. Лучше посмотреть на себя и устроить свой быт демократичнее, а идти напролом всегда успеешь. Мне симпатичнее убеждения социал-демократов, чем неглубокий анархизм. Их много, этих последних, в лице всевозможных толстовцев и прочих отрицателей существующего порядка, не выстрадавших своих убеждений. Они только переменили старую одежду на новую, но последнюю не умеют носить.