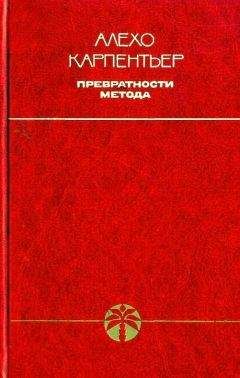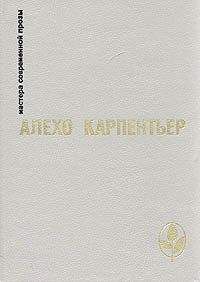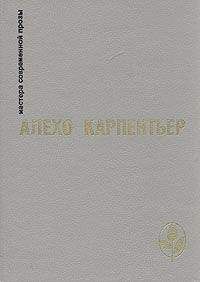«Не зовите его, — ответил мне консульский агент. — Он только что уехал». — «Вот так, как ты слышишь», — сказала Мажордомша. И я узнал — правда, настолько остолбенел, что смысл не сразу дошел до меня: по городу разъезжают десятки автомашин с бело-зелеными флажками «Альфы-Омеги», и одна из них — кажется, серый «шевроле» — приехала за моим секретарем.
«Да ведь его убьют!» — выкрикнул я. «Непохоже». — «Но… ведь это абсурдно! И он не пытался сопротивляться? Он был вооружен!» Консульский агент посмотрел на меня ехидно: «Это были очень симпатичные юноши с бело-зелеными повязками на рукавах, а в петлице значок — буква «альфа» из посеребренного металла. Они обнялись с Доктором Перальтой, он выглядел очень довольным, и все, смеясь и подшучивая, укатили в город». — «И Перальта ничего не пояснил? Не оставил и записки?» — «Да, просил передать… Он очень сожалеет, но Родина — прежде всего». — «Вот так, как ты слышишь!» — Мажордомша теперь закричала перед самым моим носом, перед застывшей моей физиономией, как будто нужно было кричать, чтобы я что-то понял. «Tu quoque, fili mi…»[335] «Какое еще там quoque, какая еще там фил… антропия, — сказал гринго, — вас грязно разыграли, вот и все. И нечего обращаться к латыни, и так ясно. Политические козни, как и повсюду».
«Я уже давненько подозревала, что этот козлище — предатель, — ворчала Мажордомша, — моя тетка Канделярия — а она-то знает многое — видела его сквозь раковины, а потом и в тарелке с мукой он проглядывал. А сейчас я начинаю верить, что и эти бомбочки, взорвавшиеся во Дворце, не кто иной, как он, принес во французском пузатом чемоданчике. Ведь только его не обыскивали при входе…» Да, там был чемоданчик — «Гермес», раскрытый, с десятью фляжками в два ряда по пять горлышек. Мы из него вытащили фляжки, каждая в чехле из свиной кожи, И в чемоданчике пахло — так мне показалось, хотя в этом не уверен, — горьким миндалем: тот же самый запах, какой ощущался после взрыва. «Быть может — да, быть может — и нет, — сказал консульский агент. — Это может быть запах от старой кожи, на которую часто проливали ром».
«Но раковины не обманывают», — ворчала Мажордомша. «Maybe yes, or maybe not»[336], — твердил янки…
Подавленный безмерной печалью оплеванного отца, избитого палками рогоносца, изгнанного собственными дочерьми короля Лира, я обнял Эльмириту: «Ты — последнее, что у меня осталось». — «Лучше посмотрите на улицу, — сказал консульский агент: — Но только поосторожнее, не то вас заметят».
…может даже случиться, что, услышав речь, смысл которой мы хорошо поняли, мы не сможем сказать, на каком языке она произнесена.
Декарт. Трактат о свете.
На улице — за охраной восьми моряков с винтовками, свисавшими с плеч, — молчаливо, медленно проходили колонны людей, проходили и вновь возвращались, не отрывая глаз от здания. Они знали, что я здесь, — и кружили, кружили, точно на воскресной прогулке по бульвару, выжидая, когда покажусь в окне или промелькну в полуоткрытой двери.
«В Столице грабят дома ваших министров, охотятся за полицейскими и шпиками, вылавливают провокаторов, сжигают архивы секретной полиции. Народ открыл тюрьмы, освободил всех политических заключенных». — «Конец света», — тревожно пробормотала Мажордомша. «А мой, когда мой конец наступит?» — спросил я, с трудом выдавив улыбку.
«Не думаю, чтобы они перелезли через ограду, — сказал янки. — И на это, пожалуй, не пойдут. Студент — тот, который организовал забастовку, — обратился с трезво продуманным манифестом к народу. Читайте…» Однако руки мои сильно дрожали, а стекла очков помутнели. «Перескажите мне, так лучше». — «Резюмирую. Манифест гласит, что нельзя провоцировать наших, американских, солдат (не бросать в них камни, ни бутылки, даже не оскорблять их); нельзя атаковать наши дипломатические представительства, нельзя нападать на наших соотечественников в общем, нельзя предпринимать что-либо, что могло бы оправдать более сильную военную акцию с нашей стороны. До сих пор не было интервенции, был лишь простой десант.
Проблема оттенков, — nuances, как сказал бы француз. А Студент понимает толк в оттенках. Он утверждает, что удовольствие повесить вас на телеграфном столбе не оправдывает риска интервенции, которая могла бы перейти в оккупацию». — «Как на Гаити», — сказал я. «Точно. Вот этого и не хочет Студент. Интеллигентный парень!»
Я подумал о головокружительной смене ролей, происшедшей за какие-то часы на фоне беспорядков. Теперь Студент внезапно превратился в моего защитника. До сих пор он был в подполье, не отвечая на призывы тех из «Альфы-Омеги», которые предлагали ему гарантии, приглашали его сотрудничать в правительстве Национальной коалиции, составляемом — уже во Дворце — Луисом Леонсио Мартинесом по совету Эноха Краудера в присутствии военачальников, не замешанных во вчерашних расстрелах из пулеметов, а также одного или двух сержантов, произведенных в полковники. До сих пор он был поглощен своим тайным трудом Человека-Невидимки, прибегая по-прежнему к слову, способному сдержать всех, скопившихся перед Орлом-с-Гербом-на-Груди, всех тех, кто по счету «раз-два-три» начинал хором выкрикивать оскорбления по моему адресу.
«Пока они не перейдут от криков…» — сказал консульский агент. Но я начинаю бояться: им ничего не стоит перейти от криков к действию. Вдруг я увидел себя в засиженном мухами зеркале, установленном на хромом кронштейне и закрывающем одну из стен: облик мой был весьма плачевен — халат, в котором я выбрался из Дворца, весь в грязи; замызгана и лондонская рубашка «halborow», пострадавшая в наших странствиях, накрахмаленный воротничок ее раскис от пота; серо-жемчужный галстук, такой Президентский, был теперь весь в пятнах от слюны, слетевшей с губ во время моего недавнего сна. И еще брюки в полоску, спустившись со впавшего за какие-то часы живота, сползали на бедра, придавая мне вид эксцентрика из английского мюзик-холла. Этим людям, кричащим внизу, там, на улице, отвечает крайне циничными жестами Мажордомша; они ее, конечно, не видят, а она — сама иллюстрация к обширному репертуару своей отборнейшей и невысказанной ругани. Меня охватывает ужас. «Почему вы не переведете меня на борт «Миннесоты»?» — взываю я. «Крики были бы громче, — отвечает мне янки, переходя на удивительно шутовской тон, по правде говоря, совсем неподходящий для дипломатического чиновника. — Видите ли, здесь я всего лишь консульский агент, который, считая, что он действует корректно, предоставил вам убежище. А если завтра моим людям придет в голову, что я ошибся, я должен буду согласиться, что я ошибся, и заявлю в печати, что я ошибся, скажу, что я сожалею, что ошибся, и тогда меня пошлют куда-нибудь еще, и все останется в узком семейном кругу. А на борту «Миннесоты», наоборот, вы будете являться официально защищенным нашей Великой Американской Демократией (и озорным движением он отдал воинскую честь), которая в данный момент не может выступать в качестве крестной матери некоего «Мясника из Нуэва Кордобы», как вы уже фигурировали на фотографиях мосье Гарсена и со всем прочим, coast to coast[337] во всех газетах Рандолфа Хэрста, — и ведь вы уже в достаточной степени отведали всего этого, когда вас прославляли так в Париже. Вдобавок мы не знаем, сколько времени «Миннесота» будет находиться в этих водах. Быть может, восемь дней, быть может, месяц, быть может, годы. Посмотрите на Гаити, где, переходя от десанта к интервенции, а от интервенции к оккупации — des nuances, des nuances, des nuances toujors,[338] — и это продолжается, продолжается и продолжается. Не нервничайте. Успокойтесь. Завтра вы уже будете вне опасности. Кроме того, я не могу действовать иначе — я выполняю инструкции».
Я почувствовал себя обманутым, жертвой насмешек, издевательств. «По отношению к вам я всегда был благожелателен… Вы столь многими льготами мне обязаны!» Тот, поглядывая на меня сквозь очки в черепаховой оправе, улыбался: «А без этого… как бы вы продержались столько времени у власти? Льготы? Что ж, теперь мы получим их от профессора-теософа…» — «А почему не от Студента, раз уж попали в такое положение?» — спросил я, стремясь уколоть его.
«Этого господина очень трудно найти. Он — человек нового поколения в своем племени. Таких уже много появляется на континенте, хотя ваши генералы и доктора стараются их игнорировать». — «Но ведь он и его люди так ненавидят вас». — «Не может быть иначе — существует неизлечимая несовместимость между нашей Библией и ихним «Капиталом»…»
Выкрики с улицы усиливались. Мажордомша приумножила свои мимические жесты в ответ тем, кто меня обливал оскорблениями. А им так легко было прорвать охрану из моряков, легко преодолеть ограду… «Как бы то ни было, для меня приятнее находиться на борту «Миннесоты», — настаивал я. «Не думаю», — отвечал янки. И, чуть ли не икая от еле сдерживаемого смеха, он произнес: «Вы забыли о Восемнадцатой поправке к Конституции Соединенных Штатов. С 1919 года — я цитирую по памяти — «запрещается производство и потребление (я сказал: потребление) любого алкоголизированного напитка на всей территории Соединенных Штатов». А «Миннесота» — это составная часть, юридическая и военная, территории Соединенных Штатов. Таким образом, если бы вы были сторонником джинджер-эля и кока-колы… И если после таких напитков при пробуждении у вас не дрожали бы руки…» — «Однако разве здесь мы не на территории Соединенных Штатов?» — сказал я ему, показывая на чемоданчик, поставленный Перальтой как раз под гидрографической и орографической картой страны.