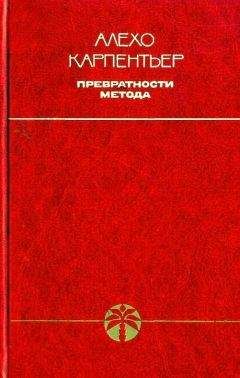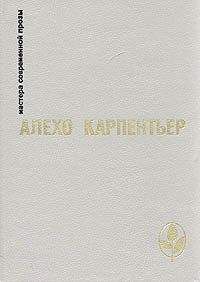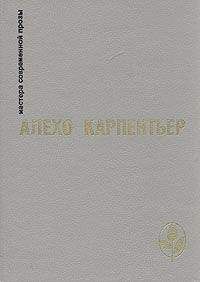«Я не могу воспрепятствовать больному захватить с собой свои лекарства. А поскольку я во всем этом деле являюсь ошибающимся, то также могу поверить, что речь идет о грудном настое, об эмульсии Скотта или о бальзаме Гримо. На «Миннесоте» это вылили бы в воду, строго придерживаясь Восемнадцатой поправки к нашей Конституции, хотя командир, оставшись наедине с собой, был бы пьянее матери, которая его породила». — «Похоже, они уходят», — сказала Мажордомша, расплющив нос о жалюзи. Я посмотрел на улицу: группы людей, будто привлеченные каким-то происшествием, удалялись к зданию таможни, где можно было заметить движение грузовиков и прицепов. «Забастовка окончилась, — заявил я, не задумываясь, торжественным тоном. — Положение нормализуется». — «В стране царит порядок», — сказал янки, комично передразнивая меня.
И снова он пришел в хорошее расположение духа: «Заходите в рубку капитана Немо. Там лучше».
Через задний коридор он вывел меня из дома под широкий навес с дверями, подвешенными под притолокой; навес прикрывал возвышавшуюся над водой бухточки платформу из деревянных досок, которые пахли моллюсками — зеленоватыми бигарро и темно-бурыми альмехас, и выброшенными на берег медузами, и заплесневевшими водорослями. Всепроникающий запах кислого вина и дрожжей, мха и животных выделений, засохшей чешуи, смолы и пропитанного солью дерева — запах таящего в себе гибель моря, так отдающий острым душком замершей на ночь винодельни, откуда разит виноградными выжимками и оставленным суслом. Здесь был ангар, в котором еще недавно хранили свои изящные, стройные, легкие каноэ гребцы Яхт-клуба, обанкротившегося после девальвации. Лодки уже вывезли из ангара, и всё находившееся тут, как и предупреждал консульский агент, своим видом действительно до какой-то степени напоминало викторианскую эпоху и гравюру на меди, кинематограф Люмьера и лавку древностей, воскрешая в памяти иллюстрации к «Двадцати тысячам лье под водой» в издании Гетцеля, с золотым тиснением на малинового цвета обложке. Старые, но своей ковровой тканью на спинках подчеркивавшие чопорность кресла; обстановка а a’ la Pickwick esq с охотничьими рогами, украшавшими стены; офорты, настолько пострадавшие от грибка и селитры, что их сюжеты, исчезнувшие под грибком и селитрой, уже были лишь сюжетами грибка и селитры. И, разглядывая диковины, заполнявшие помещение, успокоенный неожиданным отдалением от людей, мгновения назад проклинавших меня, несколько придя в себя, а после пропущенных стопок даже держась увереннее на ногах, — я поразился тому, что как-то внезапно обрел мужество среди всего окружавшего теперь меня, и перед моими глазами вещи приобретали иное значение, иной масштаб. По-новому воспринималось понятие отдаленности, дистанции, что неминуемая смертельная опасность связывала со временем. Час как-то сразу растягивается до двенадцати часов; каждый жест расчленяется на последовательные движения, точно при военных упражнениях; солнце передвигается по небу скорее или медленнее; открывается огромное пространство между десятью и одиннадцатью; ночь кажется далекой-далекой, и ее наступление будто бесконечно задерживается; приобретает огромную важность шажок насекомого по обложке той книги; паутина паука окутывает всю Сикстинскую капеллу; циничной мне видится беззаботность чаек в такой день, как сегодня, занимающихся своей повседневной рыбной ловлей; кощунственным мне представляется звон колокола в часовне где-то в горах; оглушительно падают капли из крана, как навязчивая мысль: never-more, never-more, never-more….[339]
И вместе с тем поразительна способность повышенного, горячего восприятия того, что появляется, раскрывается, увеличивается, не изменяя своей формы, словно их созерцание может означать попытку уцепиться за что-то и сказать: «Вижу — значит существую». И поскольку вижу, значит — буду существовать тем дольше, чем больше буду видеть, утверждаясь в пребывании в себе и вне себя… Теперь консульский агент мне показывает редкую коллекцию корней-скульптур, скульптур-корней, корней-форм, корней-вещей, корней в стиле барокко либо строгого очертания; переплетенные, запутанные либо благородной геометрии; то танцующие, то статичные, или тотемичные, или сексуальные, нечто среднее между живым существом и теоремой, игра узлов, игра асимметрии, то сущие, то ископаемые — все, что, по словам янки, он насобирал во время частых блужданий по берегам континента. Корни, выдернутые из своей далекой родной земли, вырванные, вытащенные, поднятые, принесенные реками во время половодья; корни, обработанные водой, перевороченные, завороченные, полированные, обкатанные, посеребренные, обесцвеченные, которые после стольких-то странствий, падений, ударов о скалы, сражений с бревнами во врдмя сплава в конце концов потеряли свою растительную морфологию, разлучившись с деревом-матерью, генеалогическим древом, чтобы приобрести округлость женской груди, вид ребра многогранника, морды кабана или рожи идола, челюсти, когтя, щупальца, мужского члена или короны, либо совокупиться в непристойных черепицевидных наслоениях перед тем, как — в завершение многовекового пути — бросить якорь на каком-нибудь берегу, забытом и не упомянутом на картах. Вот эту огромную мандрагору с острыми шипами консульский агент подобрал в устье чилийской реки Био-Био, неподалеку от суровой скалы Кон-Кон, — усыпленной покачиванием на черных водах. А вот эту другую мандрагору, скрученную и похожую на акробата со шляпой-грибом и выпученными глазами, подобную «корню жизни» — женьшеню, что некоторые азиатские народы вкладывают в бутылки со спиртным, он нашел близ Тукупиты, в устье реки Ориноко. Остальные поступили с Невиса из Подветренных островов, с антильского острова Арубы, с гордо высящихся одиноких скал, похожих на базальтовые столбы, что вздымаются близ Вальпараисо в пене прибоя, с грохотом врывающегося в каменные теснины. Достаточно было упомянуть название какого-нибудь порта, как коллекционер показывал корень и речь тотчас же обогащалась ссылками, воспоминаниями, восстанавливались эпизоды, будто слоги, составляющие название того или иного места, сами по себе образовывали все остальное.
Стоило лишь произнести слово Вальпараисо — и немедля в воображении возникали прилавки с рыбой, разложенной на водорослях, фрукты, выставленные на церковных папертях, витрины харчевен, в которых все пространство занимали апокалипсические раки-отшельники с Огненной Земли; и немецкие пивные вдоль большой улицы, где красно-черные колбасы подмигивали глазками из сала рядом с еще теплым слоеным яблочным пирогом-штруделем, осыпанным сахарной пудрой; и высокие, параллельно расположенные пассажирские подъемники, неутомимые, с оркестрами слепцов, игравших польки в подъездных туннелях, и ссудные кассы, в которых увидишь пояс с широкой пряжкой и ларец, разукрашенный ракушками, щербатый ланцет и черного головастика-идола с острова Пасхи, домашние туфли с вышитой надписью «Пода» (на левой) и «Рок» (на правой), обращенные носками к прохожему, с ослепляющим красноречием иллюстрируя Парадокс Зеркала Иммануила Канта…
С этим другим корнем, по названию Hop-Frog[340], напоминающим охваченного ужасом павиана, пытающегося в панике бежать и бегущего, не трогаясь с места, связано Рио-де-Жанейро: в квартале Итамарати среди муниципальных зданий, населенных акромегалическими статуями (всегда они в полтора, а то и в три без четверти раза больше натуральной величины героя или предтечи национально-освободительной борьбы, которых хотят увековечить), расположены лавки, где выставлены набальзамированные животные — боа, смотрящие на свет сквозь разноцветные стеклянные шарики, броненосцы, ягуары, цапли, мартышки, и там же лошади, оседланные и уже покрытые пылью, стоят на зеленых деревянных пьедесталах, будто в ожидании всадника, который никогда не придет — быть может, уже давно погиб и покоится в португальском пантеоне под сенью бразильских фламбойянов.
А этот корень, похожий на гнома с головой-брюшком, покачивающегося на тонких ножках, по прозванию Коротышка — Humpty-Dumpty, — из гаитянской столицы Порт-о-Пренс; там в предместье Ля Фронтьер, среди таверн с местной настойкой «тассо» и многолетней выдержки ромом из горного района Дондон, голые негритянки разлеглись в плетеных гамаках; поджидая очередного клиента, они сохраняют королевское высокомерие, как бы замкнувшись в себе и чуждаясь всего, — рукой слегка прикрыли вьющиеся жесткие волоски, повторяя жест Олимпии Манэ, хотя и не имеют о ней понятия.
А консульский агент мне уже показывает «Эразма Роттердамского» — корень из мексиканского порта Веракрус, поразительно схожий видом своим с погруженным в размышления гольбейновским гуманистом; и «Пикрошоля с Мердайлем»[341] — бамбуковые корни, точно раблезианские задиристые вояки, нацелившиеся копьями; и химерическое «Коксигрю» с длинным клювом и зубчатым гребнем — не то журавля, не то петуха; и «Кикимору» с растрепанными волосами и шпорами; и три корневища от одного ствола, точь-в-точь Pieds-Nickles — с никелированными, что ли, ногами (которых хорошо знал, а почему бы и не знать, если в течение ряда лет я подписывался на парижское издание «Л'эпатан»), и немного поодаль романтически перепутанный клубок из кубинских мангровых зарослей, названный «Присцилианской ересью»[342], и там же лиана-танцовщица «Анна Павлова» и «Циклоп», который красным камнем, инкрустированным во лбу, как бы наблюдавший за сумасбродным миром, взгромоздившись на консоли с другими корнями-монстрами — с «Лернейской гидрой», с «Рэкемской колдуньей»[343], оседлавшей метлу, что составляла с ней одно целое, с шестифутовой «Великой Молчальницей», словно выточенной из растительного базальта, — правда, у нее не было прямых намеков на женские формы, однако расположение частей ее корпуса, совсем как в символах йорубов[344], пластичность и упругость линий, наслоенные округлости, выпуклости и вогнутости вызывают безошибочную реакцию руки, поднимающейся, чтобы прикоснуться к ним…