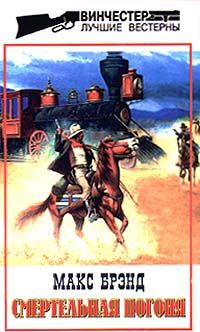Ухмылялся ухмылкой героев Реймса!.. Наконец-то! Двое суток бился Робер, чтобы найти определение этой улыбке, застывшей на лицах многих больных, глуповатой и язвительной, напоминающей скорее судорогу, нежели естественное выражение лица! Та же улыбка, что у древних греков, если говорить об искусстве, особенно в критских полотнах, а позже — у Реймса, у его ангелов, — неверная и неуловимая и настолько же больная, насколько божественно прекрасна знаменитая улыбка андрогинов Леонардо да Винчи. Легкая улыбка, которая не вяжется с лицом, скрывающимся за ней, словно за тонкой вуалью; она чуть подергивает губы и вот-вот исчезнет, но не исчезает, словно обладатели ее, насмешливо взирающие на весь род людской, хранят какую-то глубокую тайну.
Он, верно, смеялся над ними, голый человек, крутившийся возле ясель, загадочно улыбаясь тонкими губами.
— Медам, прошу прощения, — сказал Эгпарс, — но нашим сестрам и не такое приходится видеть. Как говорит Метж, «монахини уже пообвыкли, их этим — не проймешь». Метж любит так говорить: «пообвыкли» и «понимаете?». И я говорю: «Понимаете?» Я-то прекрасно понимаю. Не важно, что он в таком виде. Взгляните на него разок хотя бы. Это тоже я говорю. Взгляните. Не думайте, что он не узнает нас, но мы не интересны ему. Мы не существуем для него.
Однако голому вертуну мало было вертеться; он принялся истово пританцовывать, сохраняя при этом меланхолическое выражение лица, — ни дать ни взять Сидней Беше в Антибских улицах, — и Жюльетте сразу вспомнилось лето, нещадно палящее солнце, крепостная стена, дворец Гримальди.
Она двигалась, как во сне. Подошла поближе к мужу. Время от времени она вскидывала на него полные невыразимой боли глаза, ставшие с наступлением темноты густо-серыми, почти черными.
Они все еще не могли отделаться от образа неумолимого танцора, а Эгпарс уже вел их в следующую палату. И тут они, немало удивившись, услышали любимую песенку Домино Милый Рождественский Дедушка, по-фламандски, в детской интерпретации. До чего же слова песни не соответствовали обстановке, как неуместен был хоровод ангелов в этом аду.
Но экскурсия продолжалась: и снова снег, щелканье замков, огни, зажженные елки и отдаленный звон колоколов, доносившихся из деревни.
В приемной клоун Букэ, нарядившись Августом, наконец решился показать свой номер с зеркалом; обмазав партнера белилами, он поставил его по другую сторону воображаемого зеркала; когда тот копировал ужимки Августа, то получалось, как отражение в зеркале. Но вскоре «отражение» утомилось, игра разладилась. Тогда «отчаявшийся» Август кинулся на свое «отражение» и обратил его в бегство.
Сцена проходила под дружный хохот. Веселая забава! Печально, что ничего другого большинство в ней и не видели, потому что, как бы часто ни играли в эту игру, для нее требовалась смекалка — качество тонких организаций.
Букэ в парике из морковной ботвы раскланялся перед публикой и вернулся к «зеркалу». Осторожно ступая, он приблизился к зеркалу, заглянул за него и — шагнул в мир чудесных превращений. И уже никто не помнил о Букэ-убийце, о Букэ-развратнике. Этот ничтожный человек преобразился.
— Алиса в Стране Чудес! — воскликнул Оливье.
Букэ менялся на глазах: он стоял величественный, он проводил рукой по несуществующим пышным волосам, поглаживал бороду, королевским жестом запахивался в воображаемый плащ. Потом, вдохнув полной грудью, легко поднял тяжелую корзину. С лучезарной улыбкой он вытаскивал оттуда разные диковинные вещи. И показывал, как ими пользоваться. Он вытащил поезд и пустил его по рельсам. Потом дунул несколько раз в трубу. Он подражал всевозможным шумам…
Он был настоящим волшебником; для тех, кто не знал его жизни — все было захватывающе интересно: воображаемые наряды, в которые он рядил себя, волшебные превращения, талант клоуна. А для тех, кто знал, все это было невыносимо.
— Занятно, не правда ли? — сказал Эгпарс.
Теперь Букэ-Август импровизировал на тему «Рождественский Дед». Чувствуя поддержку зрителей, он пыжился, готовый лопнуть от гордости, словно провинциальный актер, который после долгого перерыва вернулся на сцену, чтобы дать прощальное представление. Под смех и шутки он обносил подарками своих товарищей. В его игре чувствовался какой-то подтекст, для большинства присутствующих непонятный; Робер догадывался кое о чем; для Эгпарса и Оливье подоплека игры, видимо, была еще более понятной. Их привела в восторг пантомима рыбной ловли, которая была специально разыграна для любителя рыбок, тот после электрошока проснулся, все так же блаженно улыбаясь, будто ничего и не произошло. Он ликовал. Его товарищ Букэ прямо у него на глазах превратился вроде бы в Нептуна!
Потом Букэ нарисовал в воздухе детские фигурки и, разбросав их вокруг себя, разыграл сценку «Рождественский Дедушка, окруженный стайкой ребятишек». Его шутовская физиономия с лихорадочно блестевшими глазами сразу подобрела и потеплела. Потом он стал мальчишкой, который получает свою игрушку. И на миг все поверили, что этот размалеванный паяц с блестящими зрачками действительно маленький мальчик.
Выступление мим решил закончить опасным кульбитом, но, сделав вид, что номер не удался, клоун Букэ плюхнулся на зад, и зала наградила его дружным хохотом. Тогда он, тщательно копируя повадку циркового клоуна, встал, потирая зад и морщась от боли, и под громкие аплодисменты проковылял к своей постели.
— Бедняга, как, должно быть, он любит малышей, — вздохнула Жюльетта.
— Да, — откликнулся Оливье, — вы правы, Жюльетта, он обожает деток.
Бог с ней, пусть верит в эту ложь!
Эгпарс, оказавшийся более словоохотливым, пустился в объяснения. Оливье, взяв Робера за локоть, сказал:
— Ты понял, какое ужасное желание скрывается за пантомимами Букэ? Наверное, что-то в этом роде представлял собой и Жиль де Рэ.
— Наверное, — подтвердил Робер. Он думал о клоуне, о Ван Вельде, о том Португальце. — Да, — прошептал он, — эта самая длинная ночь уходящего года мне навсегда запомнится.
Умывальники в больнице располагались прямо против палаты. Перед одним из них элегантный молодой человек намыливал руки. Он поздоровался с гостями и продолжал свое занятие.
— Счастливого рождества вам, мосье Боссеманс, — приветствовал его Эгпарс. — Из вас получился бы прекрасный врач, вы всегда так тщательно моете руки.
— О нет, доктор, — я не могу понять, что с ними. Решительно не могу. Они все время грязные.
Боссеманс протянул свои безукоризненно чистые, бело-розовые руки; от частого мытья кожа на кончиках пальцев сморщилась.
— Они все время грязные. Все время.
И он опять сунул их под кран.
— Четыре месяца назад Боссеманс женился. Он без конца моет руки. Ничего другого он уже не может делать.
Хозяин зверинца демонстрировал гостям своих зверей. Он подошел к другому мужчине, о нем вы бы сказали, что это служащий, — аккуратно одетый, приветливый, внимательный, но глаза неспокойные.
— С праздником, мосье Баллон. Вам ничего больше не слышится? Вас никто ночью не тревожил, не оскорблял?
— Нет, доктор, пока что нет. Они замолчали. Еще бы, в такую ночь! Разве они посмеют. Пойду сейчас лягу. Сегодня я буду хорошо спать.
— Удивительно все-таки, мосье, — проговорил Оливье, когда больной уже не мог их слышать, — что во всех рождественских побасенках проглядывает одна мысль: якобы в самую длинную ночь года злые духи теряют власть над людьми. Видите, у Баллона это тоже зафиксировано в сознании, и он спокоен. Если разобраться, мы многого не знаем, и эти самые побасенки могут кое-чему и нас научить!
— Совершенно верно, — сказал Эгпарс, — как утверждает Юнг, существует некое «коллективное бессознательное».
Можно было и впрямь подумать, что Эгпарс не в больницу их привел, а, по крайней мере, в театр или в музей живых фигур. Музей Дюпюитрена, демонстрирующий интеллектуальные уродства.
Неуклюже, бочком, к ним двигался одеревеневший из-за неотвязного чувства тревоги рыжий малый с помятым лицом.
— Мосье доктор, — без обиняков приступил он. — Мне было так плохо из-за вас. Зачем вы так говорили? Мне было очень плохо. Вы сами знаете. Вы не должны были так говорить. Правда, правда. О, я понимаю, вы просто разыграли меня, но у меня-то действительно никаких новостей, — и в рождественскую ночь! Я места себе не нахожу. Время тянется бесконечно. И надо же, чтобы именно сейчас с женой стряслась беда. А вы, доктор, такое говорите. Зря вы так.
Он вернулся к своей кровати и сел, обхватив голову руками.
— Мания преследования. Утром он получил письмо от матери. Естественно, прежде все письма читаю я. Мать сообщает ему новости о жене, та забрала детей и уехала. Конечно, ей досталось… Он знает, что она ушла, но он не хочет знать этого… Медам, не задерживайтесь, я покажу вам генерала. Правда, он не вполне прилично выглядит, но зато живописен. Прошу вас не отставать от гида…