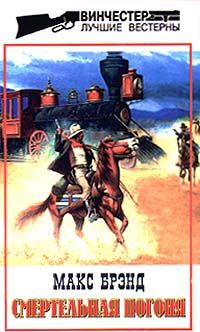Старик исполнил свой номер, прибегая к помощи разных приемов: то скакал, как малое дитя, то весь сникал, слабый и беспомощный, то театрально заламывал руки и заигрывал с публикой, как стареющая примадонна. Он чувствовал на себе взгляды зрителей, и на его увядшем лице появлялась снисходительная улыбка.
— Кто-то должен был заложить фундамент мироздания. Это сделал я. Я все уничтожил. Я мертв. Мою плоть сожгли, и я стал скелетом. Я ведь вам сказал, я мертв. Родился из мертвых. Я только что родился. Рожденный умерший. Рожден снова. Рождёнство. Рождество!
Он засмеялся, довольный собой, своим великолепным умом, своим могуществом.
— Ну что ж, счастливого рождества, мосье Менье.
— Счастливого рождества, мосье.
Поражала в больных абсолютная невозмутимость, с какой они изрекали свои благоглупости. Человек непосвященный, действительно, мог бы заподозрить их в надувательстве.
Оливье объяснил:
— У него «созидание» ассоциируется с «разрушением». По профессии он почтальон, сейчас — на пенсии, и, конечно, о метафизике не имеет ни малейшего представления, хотя его высказывания и отдают Шопенгауэром!
Старик счел, что сказал достаточно, и с достоинством лег на кровать, нелепый в своей длинной ночной рубашке, задравшейся до колен. Он натянул на себя одеяло и отвернулся: вселенная может считать себя свободной.
— А вдруг это и есть тот самый неверный Мессия, которого ожидает этот неверный мир? — прошептал Робер.
Оливье услышал, но ничего не сказал.
Двери. Узкие монастырские коридоры. Двери. Щелканье замков. «Счастливого рождества, мосье главный врач». Ясли. Кирпичные стены, рождественские елки. Непонятная фламандская речь. Враждебный гул. И снова к Роберу возвращается чувство, будто время остановилось.
Перед ним опять проходит вереница больных, и опять те же жесты, те же выражения лиц, словно стрелки часов и не двигались, те же навязчивости и мании, тот же обращенный внутрь себя взгляд. Вчерашний молодой человек застыл в своей позе: руки сложены на коленях, туловище чуть повернуто вбок. Раз ступив в вымышленный мир, он остается в нем навсегда и больше не двигается. Жан, по прозванию Счастливчик, проснувшись, опять скалит зубы. Оптимист! Еще бы, все время в выигрыше! Стоило появиться врачам, как его тут же «расклинило».
— Тройка, двойка! Все: наша взяла!
Автомат! И это после электрошока. Оливье безнадежно махнул рукой: что делали — что не делали.
— Может, в следующий раз будет лучше, — проговорил Эгпарс.
— Ну что, старина. — Оливье положил руку на плечо больного. — Рождество ведь сегодня.
— Да, рождество. Наша взяла. Тройка выпала и двойка. «День нашей славы наступил».
— Для меня еще не вполне ясно, — сказал Эгпарс, — откуда идет его навязчивость: связано ли это с какими-то воспоминаниями, или он что-то навоображал. Их приверженность к определенным словам не случайна. Он для меня покамест загадка. А хотелось бы все-таки…
В последнем корпусе Робер был впервые. С наступлением ночи он уже плохо ориентировался в лабиринте Марьякерке. Здесь у елки тоже стояли декорации: больные соорудили из картона средневековый камин, а поперек камина на рогах молодой косули лежала двустволка. Вашему воображению предлагалось перенестись во времена средневековой охоты. Для какой зловещей охоты в лесу Суань, на каких оленей, но без святого Губерта. По велению какого оберегермейстера?
— Я поведу вас сейчас в прошлое, — сказал Эгпарс. — Следуйте за мной.
Они нырнули в узкий коридор и уперлись в тупик, где находилось шесть больших комнат.
— Они же пустые, — сказал Оливье.
— Ничуть, — отозвался Эгпарс.
— А! — заинтригованно улыбаясь, протянул Оливье. — Вы, значит, от меня что-то скрываете.
— Одну заняли сегодня вечером. А вообще они почти всегда пустуют. Буйно помешанных больше нет. С появлением ларгактила они исчезли, а раньше их было полно. За мою короткую жизнь многое изменилось: психиатрия здорово шагнула вперед.
Эгпарс отодвинул тяжелую дверь, и они увидели нечто вроде тюремной камеры с голыми стенами. Прямо на полу в углу у стены валялся матрас, тут же стояла параша. Действительно камера. На матрасе лежал человек. Он вскочил и стал дико озираться по сторонам, не понимая, откуда свет.
— С рождеством, Меганк, — обратился к нему Эгпарс. Робер узнал его: он пил пиво в Счастливой звезде, тогда, в то утро.
— Он продержался три часа, — сказал Эгпарс.
— Когда же я выйду отсюда, доктор? Я натворил глупостей? Это ужасно. И все из-за пива. Я очень страдаю.
— Что верно, то верно. Ты разбил физиономию таможеннику. А они ох как этого не любят. Ты понимаешь, что мне придется выставить тебя отсюда?
Эгпарс не церемонясь говорил больному «ты». Он отчитывал его сдержанно, но гневно, как офицер своего провинившегося подчиненного.
— Нет, доктор, прошу вас. Я имел в виду; когда я выйду из этой камеры, а не совсем.
— Только когда окончательно протрезвишься. Счастливого рождества, Меганк.
— Да, доктор, счастливого рождества! — кротко ответил он, вложив всю свою душу в эти слова.
Санитар захлопнул дверь, повернул ключ в замке, раздался натужный звук, словно извлеченный из глубины веков.
Эгпарс шагал, засунув руки в карманы.
— Он побил все прежние рекорды! — воскликнул Оливье.
— Самое худшее, — сказал Эгпарс, — когда приходится их запирать. Нужно уметь быть многоликим, иначе они у вас душу вымотают. Здесь врач выступает в новой роли, как вы могли заметить: он должен наказывать. Э, да что там!.. — Он прервал себя. — Персонал рассчитан на сто больных. А у нас — четыреста. Так везде. Причем на сотню больных — самое большее двадцать выздоравливающих, а фактически — человек десять. И потом как понимать слово «выздоравливающий»! Пятнадцать из ста не выживают. Что касается остальных… — Он сокрушенно махнул рукой.
— В этом году, мосье, у нас наблюдается перерасход по количеству мертвецов, — сказал Оливье.
— Увы! Что касается остальных, то они безнадежны. Да хватит об этом! Я думаю, вы уже вдоволь нагляделись, медам!
Обе слабо улыбнулись.
Возвращались домой той же дорогой. В первом отделении по-прежнему расхаживал голый мужчина.
— Неисправим, — сказал Эгпарс. — Возможен паралич сердца. И тогда мне остается только подать в отставку.
За этот последний час Эгпарс как-то сразу постарел. В голову невольно лезло малоутешительное сравнение: круглый год главврач работал на холостом ходу, вертясь, как тот голый человек из первого отделения. Он давал больному отпуск, а через несколько часов того приводили жандармы. Он делал один за другим электрошоки Счастливчику, а тот, едва лишь приходил в себя после очередного искусственно вызванного кризиса, тут же выпаливал: «Тройка-двойка!» Размалеванному кутиле виделись веселые попойки, а любитель рыбешек бредил рыбной ловлей. И точно так же молодой муж все никак не мог отмыть свои руки. Маски, маски, маски. Да, сто раз прав Джеймс Энсор — Король Смеха. Последним был император Португалии. Он спал, вытянувшись, на спине, и даже во сне его лицо с благородными чертами не выдало его тайны.
— Знаете что, патрон, — Оливье угадал смятение Эгпарса; рождественский смотр разбередил старую рану, — давайте-ка мы вас сводим в Счастливую звезду, вы немножко рассеетесь.
— Нет, нет, увольте! Филиалом занимайтесь, пожалуйста, без меня, а я пойду спать. Недоставало еще, чтобы я и там глаза мозолил. А вы ступайте, ступайте, вам полезно.
Он откланялся.
— Доктор, — остановил его Робер, — прежде чем отпустить вас, — я бы… мне хотелось бы знать, как обстоят дела у Ван Вельде.
— А, понятно, ваш подопечный.
Робер почувствовал, как его пронзает взгляд Эгпарса.
— Ну что вы!
— Прекрасно, пойдемте посмотрим!
Эгпарс в сопровождении Робера вошел в комнату, где состоялось свидание Ван Вельде с женой.
Действие электрошока прошло. Ван Вельде, как и Португалец, лежал на спине, но с открытыми глазами. На его лице застыло тревожное выражение. Глаза смотрели, не видя.
— Обратите внимание, — сказал Эгпарс, — полная прострация. Что лечим — что не лечим. Я все больше склоняюсь к мысли, что его песенка спета. Ван Вельде — эпилептик и запойный пьяница, к нам его доставили очень плохим. Он пытался покончить с собой, будучи в полубредовом состоянии. Сама по себе такая попытка не так уж страшна. Как вы могли убедиться, он просто разыграл комедию, во всяком случае, убивать себя он не собирался… Когда к нему приходила жена, у него наступило просветление, а теперь он опять погрузился во мрак, и чем дальше — тем хуже…
— Но почему же? Ведь она была, пожалуй, даже мила с ним.
— Пожалуй. Но он знает лучше нас с вами, о чем она думает. Он не мог не почувствовать, что все лопнуло и он остался ни при чем. Он впал в сумеречное состояние. Поэтому я и назначил электрошок. Несмотря на сердце. Но увы — просчитался. Надежд — никаких. Он все в том же состоянии, его уносит течением, и он покорно отдается ему.