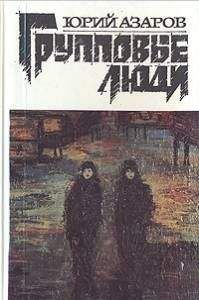— А как узнать?
— Да они копия! Все в него, как две капли воды.
— Пишет она вам?
— Написала одно письмо. Каялась. А я ей ответил: не хочу воспитывать полушубкинскую детвору. Возьмет себе Полушубкин детей — готов, мол, начать с нею новую трудовую жизнь. И что вы думаете? Она, вместо того чтобы осознать всю ответственность положения, пошла, наверное, опять к Полушубкину развратом заниматься, потому что Полушубкин сюда на имя начальника колонии написал официальное письмо, в котором обвинил начальство колонии в плохой воспитательной работе, вот, дескать, Квакин у вас два года сидит, а не может отучиться от клеветы. Вызвали меня по этому вопросу.
— Демьян Иванович, а чем вы будете заниматься, когда освободитесь? — неожиданно спросил я.
— На прежнюю работу мне, конечно, не устроиться с судимостью, — сказал с горьким сожалением Квакин. — А дело я свое знал как никто.
— Какое дело?
— Я же вам говорил. Агитация и пропаганда — это, можно сказать, основа основ…
— Господи, проблема! Будете на какой-нибудь работе состоять, а любимым делом, то есть пропагандой, в свободное время. Я, например, на службе одним делом занимался, а после службы — только любимым — психологию новую разрабатывал. И вы попробуйте без денег…
— Вы что, смеетесь?! — вскипел Квакин. — Кто меня послушает, если я не в должности буду?
— Значит, вас слушают потому, что вы должность занимаете, а не потому, что нужные и захватывающие идеи развиваете.
— Конечно же. Без должности только враждебную пропаганду у нас проводят отдельные элементы. А вы из меня тоже диссидента хотите сделать! Не выйдет!
— Значит, диссидентам никто не платит, а их слушают. Их к тому же еще и преследуют, а они не боятся этого и продолжают свое. Вы не задумывались, почему они становятся диссидентами?
— А чего тут задумываться? Они враги. Кто по классовому происхождению, а кто по заблуждению: попал в сети чуждых нам взглядов.
— И методы у них сложные: всё норовят в неформальную сферу влезть, в народ пойти, в самую глубину проникнуть, не так ли?
— Так, конечно.
— Вот и вы бесплатно, на равных, в самые глубины за вашу идейность поборитесь, без пайков, бесплатных путевок, разных приварков, тринадцатой зарплаты — без всего этого пойдите в народ и там агитируйте за повышение производительности труда, за досрочное перевыполнение планов, за то, наконец, чтобы своим трудом многомиллионную армию сволочей откармливать…
— А вот это уже антисоветчина из вас полезла, — перебил меня Квакин.
— Ну почему антисоветчина? Что плохого в том, что вы после работы, скажем, пешком припретесь на полевой стан, залезете на скирду и крикнете: "Товарищи! Давайте выполним решения августовского, сентябрьского и октябрьского Пленумов досрочно!" Что в этом плохого? Нет, вы ответьте, что тут плохого? Если вы верите в свою пропаганду, то надо и стоять за нее не на жизнь, а на смерть.
— Если надо, то постоим, — отвечал Квакин.
И именно в эту минуту к нам подошли охранники. Их было четверо. Они сразу обнаружили самогон в канистрах и отвели нас к своему начальству.
"Безумно хочется спать. Но надо вставать и начинать все сначала. Меня радует только одно: я живу не совсем, правда, такой невыносимой жизнью, как вы, но все же очень трудной. Я теперь — пролетарий. У меня трудовая книжка, где в первой и единственной графе значится, что я принята на должность уборщицы в кинотеатр "Космос". Из князи в грязи. Я перешла на вечернее отделение. Дома было шуму — и вспоминать не хочется. Папа, когда узнал, что я пошла в уборщицы, сморщился:
— Есть что-то в этом непотребное.
— Я хочу сама за себя отвечать.
— А в этом есть что-то от литературщины.
— Может быть, но я себя так лучше чувствую. Чище. Я будто оздоровилась.
— Ты позоришь меня. Нашу семью. Ты подумала об этом?
— Папа, я тебе боюсь даже сказать, но я сделала еще один важный для меня шаг.
— Что еще?
— Я подала заявление о моем выходе из комсомола.
— ?!
— Я не могу находиться в организации, которая предает меня. Не могу быть вместе с теми, у кого на первом месте не идейные, а карьерные интересы.
— Ты о нас с мамой подумала?
— У нас родители не отвечают за поступки своих детей и наоборот.
— Что ты болтаешь?!
— Я не болтаю. Я хочу очиститься. До конца. Это надо сделать один раз в жизни, а потом только поддерживать принятый в душу порядок, или ритм жизни, или обретенную чистоту.
— Откуда это у тебя, доченька? Ты в своем уме?
— Я так и знала. Ты еще и эту тему начни развивать, а там, глядишь, и в психушку можно родное дитя упрятать. Я здорова, папа. Я окончу университет…
— Если тебе дадут его закончить.
— Я и об этом подумала. У меня не было выбора. Я задыхаюсь от грязи. Тебе с мамой этого не понять.
— Бог с тобой, делай что хочешь, только об одном прошу тебя, сделай это для нас с мамой.
— Что именно?
— Возьми заявление обратно. Зачем тебе скандал? Он не украсит ни тебя, ни нас. Раз ты перешла в разнорабочие, значит, ты потихоньку и выбудешь — никто за этим не следит…
Мне было жалко смотреть на отца. Мое заявление его окончательно добило. Он член партии и даже является членом партийного бюро. Мне стало жалко отца. Я сказала:
— Хорошо. Я подумаю.
Когда я сказала эти слова, он как с цепи сорвался. Я его сроду не видела таким.
— Ты еще будешь думать? Ты будешь еще решать? Да кто ты такая, чтобы издеваться над нами?!
Отец держал в руках чайник, и он этим чайником так запустил, нет, не в меня, в стену, что брызги кипятка долетели до моих рук, я вскрикнула, а он еще что-то швырнул в стенку и орал как бешеный:
— Идиотка! Скотина! Кто ты такая, чтобы издеваться?!
Я схватила кое-какие вещи и быстро скатилась с лестницы, едва не сбив с ног соседку с собачкой. Вечером я позвонила маме:
— Я не приду ночевать. Совсем поссорилась с отцом.
Мать плакала. Потом объявила, что отец ей все объяснил. Мне стало жалко мать, и я пообещала никуда не уходить. А отец как в воду канул. Он и раньше исчезал, и мы все к этому привыкли. Привыкли отвечать на постоянные звонки: "Папы нет дома. Он будет поздно", — а утром говорить одно и то же: "Папа ушел на работу. Позвоните вечером". Иногда мама спрашивала: "Что передать? Он будет поздно. Он вам позвонит", — и записывала в блокнот всех, кто звонил. У меня на эту игру не хватало терпения, и я всегда говорила: "Его нет". Иногда отец звонил и, не здороваясь, спрашивал: "Там мне ничего нет срочного?" Мама совершенно спокойно называла, кто ему звонил, он выслушивал, а потом говорил: "Ну пока".
Теперь отца снова не стало, и мама не очень огорчилась. Мне она ничего не сказала. Я люблю маму за эту великую терпеливость. Мне кажется, что она похожа сразу на всех женщин мира. Вы когда-то говорили, что есть у настоящих людей чувство всеобщего. Так вот, у моей мамы особенно развито это чувство. Она всегда выше суеты. Выше такого мелочного и рыночного, как вы говорите, барахтанья в собственных недоразумениях. И она меня понимает. Сегодня, когда я опаздывала утром в свой кинематограф, она так грустно смотрела на меня, что я чуть не разревелась. Забилась в уголочек полупустого троллейбуса между средней дверью и стоящими впереди креслами, уткнулась в стекло, и так хорошо стало мне, что я едва не проехала свою остановку. А на улице еще совсем темно, и только отдельные пешеходы ежатся. Я открываю собственным ключом дверь и замираю на несколько секунд — боюсь идти дальше. Знаю, что совсем одна в огромном кинотеатре, и боюсь, страх пронизывает все тело, кажется, что вот-вот кто-то меня схватит за руку или за лицо. Шарю рукой, ищу лихорадочно выключатель: первый, второй, третий — и, наконец, светло и спокойно. А времени ни секунды. Надо успеть убрать до прихода первых зрителей. Я молниеносно переодеваюсь — на это уходит не больше двух минут. Хватаю ведра, веник, бегу за водой через весь вестибюль, через холл "Красного зала", спускаюсь еще по маленькой лестнице, потом еще две двери и — вот он, кран. Мне легко и весело, я спрыгиваю с последней ступеньки, набираю воду, а вот назад с ведрами идти ужасно непривычно, тяжело. Ноги торопятся, а ведра не дают спешить. Руки напрягаются, тоже хотят быстрее, а ведра, эти противные ведра, будто издеваются, раскачиваются, и плюх — часть воды на лестнице. Но это я вытру потом, в самом конце работы, потому что еще не раз мне придется спускаться за водой. А сейчас я несу ведра в свой зал. Он называется "Синий". Там все синее: синие кресла, синие панели, синий тяжелый занавес. Для того чтобы убрать это синее царство, сначала надо поднять сиденья у кресел. Эту процедуру я называю "пять минут грохота". Сиденья падают с таким отрывным громким стуком, что даже после последнего кресла еще минуту гул громыханья не покидает тебя. Наконец, все поднято: зал пересечен длинными плоскими рядами. И только ручки у кресел нарушают новый геометрический узор. Их никуда ни поднимешь, ни опустишь, ни вкрутишь, ни выкрутишь, с ними ничего нельзя сделать. Ну для чего они нужны? На них, мне кажется, никто никогда не облокачивается, потому что они узкие. Я подметаю между рядами и все время забываю про них. А они пользуются моей торопливой забывчивостью и всякий раз больно, врезаются мне в бедра. У меня на теле целая полоса синяков от этих ручек. Если бы они были чуть покороче и менее острые, ничего бы этого не было. А они сделаны как раз такими, чтобы больно жалить меня. Я их ненавижу. И всю жизнь буду ненавидеть. Это у меня теперь такой юмор, а не брюзжание.