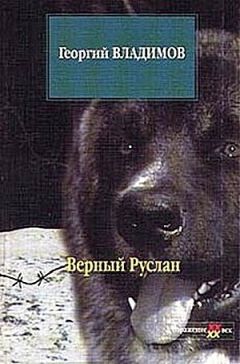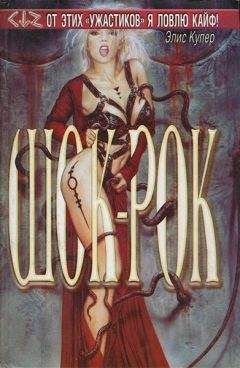— Надо ж узнать, в чем дело. Водители — молодые, могли растеряться, не справились с управлением.
— Допустим. Все как будто тасуется. Есть только одна ма-аленькая деталь — зачем они люки за собой закрыли? Закрытый башенный люк означает — что? Боевое положение танка. Бо-е-во-е!
Генерал молчал, не смея повторить: «Чушь!» и не желая все валить на своих лейтенантов.
— Я вижу, вы устали, — сказал Опрядкин. — Лучше вам поразмыслить наедине со своей душой. Можете встать. — И нажал кнопку вызова конвоя. Отведите в общую.
Тем же вечером генерала перевели в другую камеру, не перенаселенную, где было восемь коек, и одна из них ему предназначалась заранее — не у двери и не у параши, как полагалось бы новичку, а чуть не рядом с окном, где воздух посвежее. Сосед его справа был полный и седой, барского вида, с розовым одутловатым лицом, слева — аскетичный брюнет, долговязый и с впалыми щеками, у кого все лицо, казалось, и состояло из больших очков с черной массивной оправой. Оба лежали поверх одеял и смотрели на него — как, впрочем, и вся камера.
— А у вас тут недурно, — сказал генерал, чтобы что-то сказать будущим соседям.
— Грех жаловаться, — ответил розоволицый барин. — В других камерах, насколько известно, много хуже.
— Это потому, — мрачно сказал очкастый, — что у нас к небесам поближе.
Розоволицый сразу посерел и, замкнувшись, отвернулся.
Несколько дней генерала на допросы не вызывали, и понемногу, когда прошло первое потрясение, он мог оглядеться и прислушаться к тем, кто волею судеб оказался рядом, прежде всего к ближайшим двум соседям. Ему хотелось сравнить, насколько хуже было их положение, чем его, и хоть в этом найти зыбкое утешение.
Оба они ничего хорошего для себя не ждали. Очкастый, как составилось из его реплик, преподавал логику в школе, а до этого, бывши студентом-заочником, зарабатывал себе пролетарский стаж в литейном цехе завода, а совсем до этого был он белым воином, офицером под знаменами Корнилова, и вместе с ним проделывал знаменитый Ледовый поход. В том походе он простудился, схватил крупозное воспаление легких и чудом был спасен влюбившейся в него медсестрою, которая увезла его из армии и спрятала на хуторе у своих родичей. С нею прожили они более двадцати лет, не позволяя себе детей, чтобы случайно перед ними не проговориться и чтоб они не проговорились или не донесли о родителях-белогвардейцах. Но все тайное когда-нибудь становится явным. Был в его корниловском прошлом крохотный эпизод, когда он доставил пакет самому Лавру Георгиевичу, и надо же было случиться, чтоб как раз этот момент был схвачен кинокамерою приезжего оператора. Молодой поручик лихо подлетал на коне к стоявшему на пригорке генералу, лихо осаживал, соскакивал, вытягивался в струнку. И генерал, достав руки из-за спины, принимал пакет, а затем, ласково улыбаясь, пожимал руку посланца. По этому пятисекундному кадру, включенному в какой-то документальный фильм о Гражданской войне, бывшего поручика, теперь и очкастого, и усатого, опознали сослуживцы и сосед по коммуналке. К тому же бывший корниловец не удосужился фамилию сменить, а она была нацарапана гвоздем на коробке с пленкой. И вот гуманная рабоче-крестьянская власть донимала его вопросом, на который при всем желании он не мог ответить: почему из тысяч пакетов именно этот необходимо было запечатлеть для истории? Небось такое в нем содержалось, что стоило многих смертей и крови бойцам Красной Армии.
Случай розоволицего барина — или, как он говорил, «казус» — был совсем особый. Барин, в звании профессора, читал в университете лекции по уголовному праву и как-то не обратил должного внимания, когда один его студент избрал темой дипломной работы правовую деятельность Временного правительства в период между двумя революциями. Профессор вяло возражал, что это неинтересно, недиссертабельно, что там «темный лес» и «черт ногу сломит», но тем, кажется, еще сильнее распалил любопытство настырного студента; он засел в архивах и выудил нечто сверх-диссертабельное. Это был ордер на арест гражданина Ульянова («он же Ленин»), подозреваемого в шпионаже в пользу Германии, подписанный в отсутствие прокурора Временного правительства одним из его заместителей — или, как тогда говорилось, товарищем прокурора. Имя этого «товарища» и его подпись удивительно совпадали с именем и подписью руководителя дипломной работы… И что особенно отяжеляло вину розоволицему соседу, так именно его бывшее звание. Прокурор бы этот ордер выписал по служебному долгу, товарищ — не иначе как по велению души.
Поначалу «казусы» его соседей казались генералу таким же бредом, как и его собственное дело, однако своих вин они не отрицали, даже охотно их разбирали вдвоем.
— Да не за это вы сюда попали, — досадливо отмахивался корниловец, — а за лень. За преступное, я бы сказал, бездействие. Ордер-то выписали, а за исполнением не проследили. Вот и выпустили подранка. А это, всякий охотник скажет нам, самый опасный зверь.
— А вам не следовало лезть под объектив, — огрызался товарищ прокурора, и склеротические жилки на его щеках проступали краснее. — Тщеславие вас обуяло, милостивый государь! Хотелось в истории след оставить, вот и дали след.
— Ну, это уж не от меня зависело. Это, если хотите, господин Неуправляемый Случай. А у вас — все вожжи были в руках. И подумать только скольких людей вы могли осчастливить!
От их бесед генерал поначалу старался быть подальше. Могло же быть, что Опрядкин его подселил нарочно к явным врагам, чтоб подследственный ужаснулся, до чего докатился он, в какой компании оказался. Или же это были «наседки», назначенные спровоцировать его, чтобы потом навесить ему «недонесение». Многое было тут подозрительно: в камеру приводили с допросов — а чаще приволакивали — избитых, окровавленных, языком не ворочавших от смертной усталости, эти же двое приходили целехонькие, их вроде бы пальцем не трогали. Но понемногу, к его удивлению, проходила изначальная неприязнь к явным врагам, а с нею вместе рассеивались и подозрения. Выпал случай заметить, что свои прения они вели и без него. А не трогали их потому, что они в своих винах не запирались, а бывший корниловец так даже своею гордился. И разве его, Кобрисова, если не считать линейки, так уж тронул Опрядкин?
И пора же было открыться им, никуда не денешься. Как-то они втянули и его в откровенность, он им поведал о танках и Мавзолее — с опережающей усмешкой, как о несусветной чуши. Оба выслушали внимательно и задумались.
— А боекомплект был? — первым спросил корниловец.
— Боекомплект? — это генералу как-то не приходило в голову.
— Ну да, снаряды, патронные ленты к пулеметам. Не собирались же вы, товарищ красный генерал, драгоценную усыпальницу гусеницами давить.
— Это же самое важное, — сказал товарищ прокурора. — Это меняет все дело.
— Мог и быть, — отвечал генерал. — В часть пригнали укомплектованными. А в парадах с танками никогда не участвовал.
— Говорите, что не было, — сказал корниловец. — Кто станет проверять? Они тоже лени подвержены, как и все мы.
— Ошибаетесь, дорогой, — возразил товарищ прокурора. — Им ничего не лень! Они и подложить могут задним числом.
— Вот так и говорите, если на то пойдет, — сказал корниловец. — «Вы же сами и подложили». Главное, чтобы вы первый заявили, что не было боекомплекта. И добейтесь, чтоб это в протокол вошло.
Получилось, однако, не так, как советовали генералу соседи. Опрядкин его возражение выслушал, наливаясь лицом, и при этом он медленно, один за другим вытягивал ящики письменного стола, а затем разом их задвинул дверцей — с грохотом, от которого генерал даже вздрогнул.
— Фотий Иванович, — заговорил Опрядкин, вышагивая по кабинету, животом вперед, разбрасывая ноги в стороны и рубя воздух ладонью, — да если б был он, боекомплект, если бы были снаряды, я бы с вами не разговаривал. Я бы вас вот этими руками растерзал, удушил бы. А вот потому, что не было, я и говорю: «покушение». Ну, черт с вами, оформлю через статью девятнадцатую как «намерение». От которого по какой-то причине отказались. Но не потому, что вдруг обнаружилось отсутствие боекомплекта. Придумайте что-нибудь убедительней. Я от вас высшую меру хочу отвести, а вы мне помочь не желаете. Я вам хочу десятку оформить, так давайте же вместе, вдвоем, поборемся за эту десятку!
Генерал уже и не знал, что отвечать на это.
— Но снарядов же не было! — твердил он упрямо. — Патронов к пулеметам не было!
Опять он вздыхал, Опрядкин, и брался за свою линейку.
К некоторому даже удивлению генерала, в камере предложение Опрядкина было воспринято и рассмотрено вполне серьезно.
— Это не так кровожадно, как на первый взгляд кажется, — сказал товарищ прокурора. — Он предлагает компромисс — и взаимовыгодный. Ведь ему тоже надо что-то представить начальству, а вы без десятки все равно отсюда не выйдете. Можно построить очень даже трогательную версию на том, что отказались от покушения. Увидели обаятельные лица вождей, поразились обликом товарища Сталина… что-нибудь в этом роде. И устыдились. Точнее — ужаснулись. Так правдоподобней. Совсем отрицать хуже. Нужно же и следователю дать кусочек хлебца с маслицем.