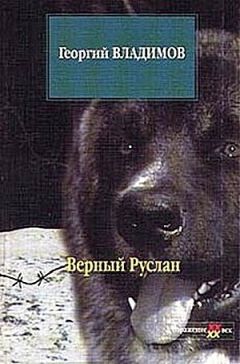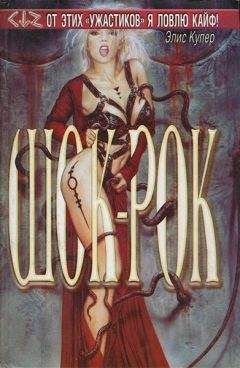Угрюмый корниловец этот вариант забраковал напрочь.
— Не стоят они вашего «правдоподобия». Нашли компромиссы — между кошкой и мышкой! Глухая несознанка — вот лучшая защита. Или он должен признать, что взяли боекомплект на парад? Да за это одно — к стенке. Даже если правду можно сказать, все равно врите. Спросят, кто написал «Мертвые души», говорите: «Не знаю». Гоголя не выдавайте. Зачем-то же им это нужно, если спрашивают. А впрочем, — прибавил он, оглядев генерала взглядом отчужденным, едва не презрительным, — я ведь исхожу из своего опыта. У вас опыт — другой. Вся ваша жизнь, товарищ красный генерал, доселе была, в сущности, компромиссом. Так что, может статься, вы со своим следователем и поладите.
Стена отчуждения все время стояла меж Кобрисовым и обоими его соседями, и за надежных советчиков он их все-таки не держал. В глубине души — в такой глубине, что он постыдился бы себе признаться, — он не стремился эту стену разрушить, он ее даже укреплял, внушая себе, что у соседей все-таки были, не в пример ему, основания находиться здесь и ждать расстрела. Они, как уже, верно, сформулировано было в их обвинительных заключениях, активно боролись против советской власти, он — активно ее защищал. И то, что годилось для них, не могло относиться к нему. Не вполне исключалось, что он бы мог со своим следователем и поладить.
Еще и то способствовало разобщению, что им, москвичам, регулярно доставлялись передачи, а ему, иногороднему, оставалось довольствоваться кашей на хлопковом или конопляном масле, которую приносили в ведре и вышвыривали ему половником в подставленную миску, фунтом липкого хлеба, двумя кусочками сахару и чаем из сушеной моркови и яблочной кожуры; этого было мало ему и это огорчало едва не до слез; он съедал свой обед, так пристроясь, чтоб не видели его лица. Он себя стыдился, он стыдился унижений, каким подвергали его, и не понимал, что тем он себя унижает еще сильнее. Но вот как-то увидел он, что его соседям передачи от жен или детей, которые не отказались от них, доставляют не столько радости, как можно было бы ожидать; корниловец, съедая домашние пирожки с мясом, разломанные надзирательскими пальцами, еще больше мрачнел, а розовый барин, разложив снедь на койке, долго смотрел на нее и проникался к себе такой жалостью, что на глаза у него навертывались слезы. Однажды генерал засмотрелся на него слишком открыто и продолжительно, и товарищ прокурора, заметив его взгляд, расценил это по-своему. Он густо намазал большой кусок хлеба маслом, а сверху нагрузил толстым пластом колбасы и все это протянул генералу:
— Позвольте угостить, не побрезгуйте.
Генерал, спохватясь, отпрянул и помотал головою.
— Они не возьмут у вас, — сказал корниловец, глядя на него почти брезгливо. — Коммунисты же против частной благотворительности.
— Генерал, это прежде всего некрасиво, — сказал товарищ прокурора, держа бутерброд терпеливо в протянутой руке. — Делиться едой — святая тюремная традиция.
— Да я что же… Только чем отдавать буду? Мне-то передачки носить некому.
— Но если бы передачки носили каждому, тогда бы и традиции не возникло. Примите, прошу вас.
И генерал принял тюремный дар и отведал его. Корниловец протянул ему пирожок, генерал принял и его.
Понемногу становился он другим, чем был до этого. Он, как бы даже отстранясь, постигал тюрьму. Ему уже не нужно было объяснять, почему ложку ему дали деревянную, а миску — железную, с толсто закругленными краями. А отчего суп из трески отдавал содой, это он мог сам объяснить соседям по-солдатски: «Чтоб поменьше о бабах думали. А с чесноком было бы наоборот». С интересом, подчас и с восхищением он воспринимал предусмотрительность стражей, но и хитроумие охраняемых. В предбаннике стриг волосы и подбривал усы парикмахер из вольных — все машинкой, никаких бритв, и совершенно голый! Это чтобы он не смог послужить почтовым ящиком между тюрьмой и волей и между клиентами из разных камер. Ночами предпринимались «мамаевы побоища» — повальные шмоны с выгоном из камеры по команде «Все с вещами!», проколы шомполом подушек и матрасов, разрывы швов на одежде, — и никогда ничего не находили, и почта все равно работала: утаенным грифелем, который, бывало, припрятывали в ноздре, на клочке подтирочной бумаги писалась цидулька — два-три слова: «Такого-то — к вышке», «Такой-то наседка» или просто отчаянный зов: «Валя, отзовись!», — послание закатывалось в хлебный мякиш и прилеплялось к банной скамейке снизу. Это было почтовое отделение номер два, номером первым был сортир. Непостижимо меж разгороженными, разобщенными людьми растекались новости с воли, приносимые новыми арестантами, — и против законов человеческой солидарности радовались новичку, точно он был вестником свободы. Его называли «свежей газетой», и главная его весть была — о новых и все расширяющихся посадках. Но, странное дело, это не только угнетало и печалило, но чем-то и обнадеживало: процесс вот-вот перешагнет критическую черту, когда он сделается неуправляемым. И тогда маятник, достигший крайней своей точки, начнет движение обратное.
Новой волною арестов, — что заранее необъяснимо узнавалось в камере, принесло В., знаменитого московского литературоведа. Обрадовались и ему как простому свидетельству, что берут уже всех без разбору, а не только «политиков», и это к лучшему: чем больше людей арестуют, тем скорее исчерпана будет возможность держать столько людей в неволе. Сам новичок был, правда, другого мнения — что возможности России в этом отношении неисчерпаемы, — как, впрочем, и во многих других.
На какое-то время он сделался центром внимания и пребывал в постоянных беседах — групповых или наедине. Ни своей профессией, ни багажом своих знаний генерал никак не соответствовал новому соседу, не мог бы приблизиться собеседником, а тем не менее стал им — неожиданно быстро.
Как-то, при общем выводе на оправку, досталось им вдвоем выносить парашу. Староста камеры нашел, что они ростом подходят друг другу, и, значит, перекоса не будет, содержимое не расплещется. Литературовед В. был, и впрямь, длинен, только худющ и одышлив, а главное — нервен излишне. То и дело он подергивал слабой своей рукою — и не для перехвата, а по случаю стукнувшей ему в голову идеи.
— Мой генерал, — спросил он, — не кажется ли вам, что коль скоро чаша сия не миновала нас, мы могли бы извлечь из нее… то есть, разумеется, не из нее самой, а из процесса ее несения, ценности интеллектуального порядка?
— Какие же это, к примеру? — спросил генерал.
— Ну, скажем, дать определение новейшей исторической формации: «Коммунизм есть советская власть минус канализация». И что самое приятное, эта формация уже построена!
Генерал лишь оглянулся — не слышал ли кто эти речи. Слава Богу, напарник его говорил, будто с вишневой косточкой во рту, за два шага уже нельзя было разобрать.
— Вы смущены парадоксальностью определения? — продолжал он, кося выпуклым глазом куда-то в потолок, свободной рукою оглаживая лысину, с начесом реденьких черных волос. — А мне представляется, оно ничуть не противоречит тезису основоположника: «плюс электрификация». Все очень симметрично. Применив «плюс», он тем самым не исключил существование «минуса».
— Он ни хрена не исключил, — сказал генерал, сбиваясь на полушепот. Все-то у него симметрично. Хошь в ту степь, хошь в противоположную…
— Браво, мой генерал. Никто не постиг этого человека лучше вас. Вы никогда не пробовали доверить свои мысли бумаге?
— Это, стало быть, особому отделу? Не пробовал. Это уж ваше дело литература.
— Я к литературе имею отношение косвенное. То есть занимаюсь, с вашего разрешения, литературой о литературе.
— Ну, так или иначе, а вы человек писучий?
— Как вы сказали?
— Ну, есть у вас такая писучая жилка, что ли.
— Подозреваю, — сказал литературовед В., - что мысленно вы меня так и называете: «писучая жилка». Я угадал?
Генерал так не называл его, но согласился, что оно и неплохо. С этого дня пошли у них долгие беседы, которые и название получили: «Размышления у параши». Смысл названия был не столько топографический, сколько исторический — просто, с параши все началось.
Отношения их вскоре сложились так, что генерал мог задать вопрос деликатный и обычно избегаемый в тюрьме: «За что попали сюда?»
— За вину, — ответил «писучая жилка». — То есть посадили меня, как водится, ближние, мои же коллеги, но не безвинно, нет.
— Какая же вина?
— В писаниях моих было много непродуманного. Ну, хотя бы, что Вольтер своими идеями оказал сильнейшее воздействие на русских революционных демократов.
— А он — оказал?
— В том-то и дело, что ни хрена. Скорей — они его презирали, и слово «вольтерьянство» считалось у них ругательством. Но зачем я это написал! Вот и сижу.