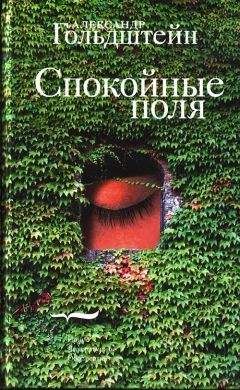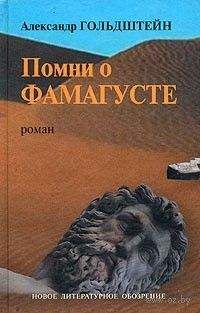Как давно это было. Четыре, пять, шесть лет назад, а исход все неясен, неясен.
Здесь завершаются эти профили освобожденных, но мы к ним вернемся или нас к ним вернут.
Спасайся кто может, пела птичка в золоченой накидке.
Прежде казалось — помогут, теперь — только сам, только сам.
Юнгеру морфий рассек чтение «Тристрама Шенди»: вчитавшись в роман перед атакой, был поднят приказом, ранен, получил свою долю обезболивающего, продолжил чтение измененным умом и навсегда вступил в клуб шендистов.
Мне морфий разбил надвое Юнгеров «Гелиополь».
Правду сказал русский писатель, угрюмый, с высоким морщинистым лбом и опущенными усами разгульник: морфий царь наркотиков, он разлился внутри медленным осчастливливаньем. В знойный полдень галерник, убитый работой, похищен с невольничьей барки прохладными, сокровенно прохладными водами Нила, объят ими и воскрешен. Много ночей меня мучили сны о несдержанных обязательствах, нарушенном долге, стыде и вине, постыдной вине: я нечто обещал и не выполнил, суетился, теряя равновесие, изнемогая под судом нравственных кредиторов, чьи права на меня и презренье, питаемое к моим жалким потугам, представлялись неоспоримыми, тогда как мои отпирательства — уверткой обманщика, что изнуряло хуже предстоящего, будучи как-то с ним связанным. Морфий сделал сны легкими, царственными. Третейский арбитр в изысканных диалектических диспутах о порядке престолонаследия, я с неутешным отрядом сторонников искал, дабы предать христианскому, воинскому погребению, на зимнем подмороженном поле останки герцога-храбреца, павшего за честь рыцарей и баронов, сминаемых троном, лисицами рыскали и нашли спустя три часа, под ощеренной желтой злорадной луной, вмерзшего в лед лицом, губа, часть щеки оторвались, когда его отдирали, то, что осталось, нельзя было уже назвать лицом; услышал гниение, признак величия, в опочивальне итальянского короля, отходящего среди кружев, цветов, образов и свечей, — возвышенный, укрепляющий запах, коим дышал я наутро.
В паузах деликатные интермедии, слоистыми пеплами, листками папиросной бумаги, что укрывали в старых альбомах ценные репродукции — кисейным заслоном, вуалью. Старец кричал на два голоса: жалобно — Рона, и резкий остерегающий оклик — Ахмад. Он, конечно, из Андижана, где был кинотеатр «Шарк улдузу», звезда и акула Востока, летний, открытый акулам и звездам, с толпами гудящих мужчин вокруг Роны, полноватой еврейки, синее платьице, белый горошек, роковое для старцев сочетанье неплодной любви и разлуки, протяжного, точно индийская песнь из кино, расставания. Рона петляла, изменничала, раскаленная сотнями глаз и хотений. Ахмад, случайный красавчик-двурушник Ахмад, представлял ахмадийцев, сомнительную мусульманскую секту, ибо негоже суровому девизом брать кротость, у старца желтый зализанный череп, бессонная глинобитная Азия, шорохи и слова во дворах, в переулках. Ахмад подступается к Роне со своими змеиными искусительствами, но далее снова блаженство, высокость, я снова третейский арбитр, блистательно разрешающий монархический казус.
Пола Морфи я не встречал. Простейшее звукоподобие не могло быть допущено в отборный сезам. Но этим не отменяется горняя справедливость происхождения, провиденциальность зачатия, родов на кровати под балдахином в дурманном плантаторском разнотравье юга, где будущий чемпион черно-белых фигурок видел сызмальства белых и негров, утешаясь гармонией их сообщного бытия.
Морфий дал мне ключи к «Гелиополю», к его синей сдавленности, фашизм борется здесь с нацизмом.
Фашизм это княжество, рыцарство, аристократское продолжение старых династических правил. Солнечноликая иерархия, монастырская книжность. Совершенство взлелеянных оружий расплаты, истребительных взрывов, лучей, прободающих броненосные панцири. Двоякодышащее, духовно-чувственное собирание меда аскезы. И — гетеанская деятельная созерцательность, природоведенье, культ прогулок и собеседований, верховая езда, жесткая субординация в орденском дружестве, ученичестве, повелительная отрешенность самопожертвования, саморазвития, аполлиническое, дионисийством приправленное миродержавие.
Нацизм заправляет потными ордами на улицах, площадях, стадионах — вымазанная расовыми выделеньями масса, быкорогое стадо, ведомое ловкими совратителями в хромовых сапогах, щегольских портупеях. Гелиопольский вождь его тучен и бонвиванист, обжорно пантагрюэлен, ублаготворенный ликером, сигарами; любитель пряностей и острых слов, скабрезных книжиц о похождениях клира, холодный изучатель низости, непревзойденный в разлагающей клавиатурной игре. Нацизм человечен, в этом порок его, основной: плоть людская, страдальческая, мясожующая, поедаемая. Человек, человеческое, человечность, как давным-давно заповедано тем, кто безумной рукой разбросал семена в Юнгеровых голодных полях, должны быть преодолены, и фашистская аристократия Гелиополя, многоярусного, у зеленой воды воссиявшего цирка и театра, лоскут за лоскутом калеными стилосами по-живому сдирает с себя Адама. Брахманы и кшатрии, философы-меченосцы стяжали безжалостной милости, воинственной доброты, эротизирующих воздержаний — взмыв над собой и достигнув той промежуточной стадии, что в чаемом, хронологией не стесненном грядущем станет плацдармом неописуемых взлетов. Это только начало.
Теперь, не спросив дозволения переводчицы (простите меня), я разбросаю и склею (наклею) цитатную смальту, раскавычив и изменив в своих целях: все продлится недолго, объем невелик.
В горновосходительном отчете Фортунио воздух повествования раскаляется с приближением автора к древним кратерам, подобным зеленым кубкам, что разбрызгали пену морскую, он видит гроты, ледниковые мельницы, котлы ледникового периода, в них ледяное молоко обкатывало и шлифовало тысячелетия, а над этим испарившимся холодом — солнце в зените, свет был такой силы, что искажал формы и превращал все, расплющивая, в один сверкающий серебряный диск. Титанические силы природы, пишет Фортунио, оставляют такие места на память в знак их непобедимости. Ледниковые мельницы — кладовые драгоценных камней, изумрудов, вызывающих оцепенение, они превосходят все богатства Индии. Образованию такого рода жил содействуют звездные эпохи, этого не было ни в Голконде, ни в Офире.
Орелли, искатель замкнутых состояний, рассказывает о Лакертозе, затерянной на островах причуде: в час, когда альбатрос летит на охоту, жизненный мир города-государства уплотняется до предела. Белизна камня, пошедшего на возведение построек, ослепляет, выжженные круги перед жертвенниками черны. Женщины приносят каждодневное подношение уходящему солнцу, к святилищу солнечного божества, тяжеловесному порфировому храму с высоким обелиском, по которому сверяют свой путь мореходы, и золотым божественным брачным ложем обращены все городские жертвенники. Раз в год бог отбирает красивейших юношей и девушек, под белыми парусами уплывают они во дворец, дабы никогда не вернуться оттуда. Во дни празднеств в проливе устраиваются морские сражения, пышные эскадры ведут ожесточенные бои, расцвеченные сложной иллюминацией, потом корабли сжигают. Тень накрывает статую воздевшей руки богини морей, рог морского божества помельче звучит с галерей языческих храмов, и жертвенники курятся опять, заволакивая вечернее небо сладковатым дымком — обрядовым и животным.
Меж горной грядою и градом нет разногласий по существу, тверже, уверенней подчеркнем: о тождественном говорят Фортунио и Орелли, о камне, сиянии, щедрости — мельницы, кратеры с тою же расточительностью исторгают из себя россыпи изумрудов, с какой город сжигает эскадры и цвет своей молодости. Человеческое, и в том грандиозность островного примера, по кругу, размеренно, день за днем проборматывающего свои герметичные речи, выбито, выжато в Лакертозе — гнетущее в своем светлом великолепии поругание идеала, полюс, неизлечимый ужас предела, на природе природою учрежденный ритуальный музей, серпентарий самопоглотительных гадов, ежедневно и гибко пожирающих себя с головы до хвоста. Заклание идеала невинное, словно черно-кровавые маски майя и жреческие ножи, коими вспарывали, ломая, грудину, чтобы взять пальцами теплое влажное сердце; невинное, подобно самому извлеченью тугого, пульсирующего, еще живого комка. Но что за дикое слово. При чем здесь вина, подносимая на блюде извне посторонними, единственным преступлением, судить о котором нельзя, ибо такого еще не случалось, было бы лишь неисполнение обряда, совершенного, как солнце и дождь, как пирамиды с их жертвенной комнатой, залитой рассеянным светом, обряда, небом предписанного на все времена, чтобы не рухнуло мироздание, так издревле к золотому брачному ложу плывут белые паруса.
Путь утеснения, несвободы отвергнут аристократией Гелиополя. Есть иные образчики.