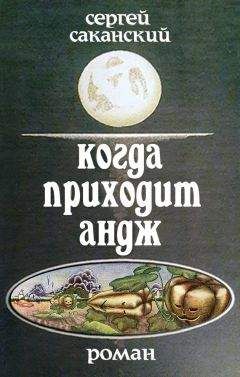Персонал гостиницы пришел в смятение, многих рвало, на свою беду они вызвали полицейских, те же, не пытаясь разгадать причины ночной трагедии, были прежде всего озабочены тем, как скрыть происшествие от военных властей. Один из сержантов был послан в станицу, чтобы перехватить только что ушедшую уборщицу: он догнал ее почти у самого дома и забил сапогами, тем временем, под предлогом снятия показаний, весь персонал собрали в комнате мертвых офицеров, заперли на ключ и, щедро разлив по коридорам горючее, гостиницу подожгли.
В те дни начальника полиции беспокоили два нарыва, вскочившие у него на затылке. Почесываясь, он смиренно ждал, когда в станицу приедут военные за объяснениями. Он заранее заготовил несколько фляг вина и чачи, собрал с подчиненных крупную сумму на откуп и запер в сейф. Дозорные из числа местной шпаны дежурили с портативными рациями на всех трех дорогах, ведущих в Запретную Зону, губернатор и префект, запасясь изрядным количеством вина и двумя знаменитыми на весь остров школьницами, заперлись на фешенебельной вилле, предаваясь пиру во время чумы. Остров затих в ожидании близкой войны, птицы перестали петь, свиньи — хрюкать, глубоко в своей пещере в Южных горах залег, тягостно воя, несчастный Двувога.
Однако, прошло три дня, а ситуация не изменилась: в станице не было видно ни одного военного, и поселяне угрюмо пили горькую по вечерам.
На четвертый день начальник полиции не выдержал и позвонил в воинскую часть — ответом ему были длинные гудки, как по официальному, так и по секретному номеру.
Вечером пятого дня в порт после штормового перерыва прибыл рейсовый катер, капитан быстрым шагом, ни с кем не здороваясь, направился в префектуру, но не найдя никого на месте, пришел в полицейский участок, где и рассказал весьма странную историю.
Неделю назад, делая рейс на Керчь, который проходил, как известно, мимо уютных пляжей Запретной Зоны, он увидел у самой воды группу спящих на песке солдат, уже тогда отметив довольно странную деталь, а именно: загорали они под проливным дождем. И вот сейчас, на обратном пути, он мог бы поклясться, что они все так же и лежат там, на ветру и, скорее всего, не спят и не загорают вовсе, поскольку слишком уж их раздуло, и вороны клюют их лица.
Начальник полиции, несмотря на то, что был от рождения полным идиотом, сразу все понял — и гробовое молчание птиц, и дохлых уток в затоке реки, и собственные нарывы…
Тотчас же в строжайшей тайне собрались все именитые люди острова — депутаты, уголовники, бизнесмены, фотомодели, даже один журналист — и, погрузившись в катер, отчалили на материк, и почти все они спаслись в клиниках Крыма, а безмятежные сельчане допили свое вино и забылись последним сном. Смерть протекла по мутным водам Шумки, спустилась по склонам балок, запалила души адским огнем, и в то время, как на башне Обсерватории умирал последний житель Таурики, неврастеник-профессор, в глубокой пещере Южных гор корчился в муках Двувога — галлюцинация, уже не нужная никому.
Хотя книга была напечатана со значительными купюрами, ее двадцатипятилетний автор ликовал: он бегал по киоскам, скупал журналы, находя все новые потоки грязи, которой поливала его критика.
Это была явно клеветническая книга. Это была откровенная, пародирующая сама себя клевета, не только на Советский Союз, его будущее, но и на человека вообще, на мир в целом. «Если они, — написал Стаканский в предисловии к повести, — именуют клеветой неугодную им всего лишь правду, то интересно будет представить теперь, какой эффект произведет именно клевета, настоящая, намеренная, тонко рассчитанная клевета?» Это действительно был единственный в своем роде пример использования клеветы как литературного метода, и от некоторых мест «Таурики» благосклонного читателя должно было просто тошнить.
«Молодой автор представил нам скверно пахнущий образчик дурного вкуса, — писал “Новый мир”, — он небрежно распоряжается с русским языком, пропускает запятые и часто теряет сказуемое порой обстоятельство места с образом действия прямолинейно…»
Замечательным было то, что даже диссидентская общественность приняла новую антиутопию в штыки. «Ни единого просвета, ни одной мало-мальски спасительной щели, куда можно юркнуть, подобно гоголевскому таракану, из этой мрачной, насквозь надуманной действительности. Мое глубокое убеждение, — продолжал некий А.К. в эмигрантском журнале “Суть”, — что литература и искусство вообще должны утверждать высокие гуманистические идеалы, вести от тьмы к свету, а здесь, в этой изнуряющей прозе (не лишенной, впрочем, некоторого чисто литературного шарма) прослеживается только одна “высшая” цель — дать читателю право сойти с ума, вместе с автором и его героями…»
М-да. Тоненьким карандашом правя свою рукопись, Стаканский с беспокойством думал, что нет ни одного человека на свете, которому он может ее показать, впрочем, как и многие, если не все свои сочинения. Друзей у Стаканского не было, о чем он знал всегда, но особенно остро почувствовал это сейчас, когда готовая, приятно без помарок отпечатанная рукопись, лежала, тяжелея, у него на ладони.
(Стаканский посмотрел на свою руку и подумал, какая она загорелая, жилистая, сколько еще твердых как камень книг сделает эта рука… В самом деле, так ли часто на протяжении жизни человек вот так пристально, вдумчиво смотрит на свою руку? В следующий раз, уже через много лет, когда мой дядя посмотрит на свою руку, она будет бледная, слабая, все свое сделавшая, и будет это за какие-нибудь несколько часов до его страшной смерти…)
Вздохнув, Стаканский запер никем не читанную рукопись в потайной ящик стола. Достаточно было самого существования книги.
Там, в этом укромном ящике, нашли свое прибежище расхристанные, непричесанные, почти всегда неоконченные его опусы: ранняя лирика, увековечившая и Аню Колобкову, и других, каких-то безымянных девок, сказки, фантастическая трагедия из Средневековой жизни, санская повесть, фрагмент из которой уже нашел место на этих страницах, а также юношеский роман «Головокружение», в меньшей степени неоконченный, чем все остальное, поэтому о нем стоит поговорить особо.
Роман начинался классически, даже подчеркнуто чопорно: там-то и тогда-то появлялся молодой человек такой-то наружности, был он из такого-то рода… В данном случае, фигурировал угол Сретенки и бывш. Лубянки, 5 февраля 1953 года. Тут проницательный читатель сразу навострит уши, предвкушательно поерзает на стуле — месяц! К тому же, и Лубянка уже упомянута… Но автор почему-то не торопится удовлетворить собственную заявку и лениво рассказывает, как Андж (так назовем мы нашего героя) столь педантично описанный, успевший уже в нескольких мысленных фразах наметить и круг персонажей (друг, невеста) и приятных перипетий (ревность, измена, возможно — донос) ожидающих читателя, вдруг странно и нелепо погибает — бородатый незнакомец в подворотне Печатникова переулка (Стаканский тогда был последователем гоголевского метода географической скрупулезности, еще не решаясь в одном маршруте запутывать улицы разных городов) вкручивает ему в солнечное сплетение нож.
И тут вислоухий читатель окончательно убеждается, что перед ним не Лев Толстой, и если он научится читать на языке этого автора, то скоро будет вознагражден.
Действительно — с первых же строк второй части включается новый тумблер, и действие стремительно летит в иррациональность. Перед нами снова появляется умерший герой, он обнаруживает себя в новом, потустороннем мире — это вроде как наша планета, но пространство здесь лишено времени, здесь существуют великолепные города с висячими озерами и стеклянными мостами, удивительные туманные долины, посмертная жизнь полна новых, неизвестных людям ощущений и волнующих событий, здесь Стаканский, то есть, тьфу — Андж — находит себя: он учится в университете, у него появляются новые друзья (Шмах! Запомни! — кричала бабуля на лестнице фамилию зубного врача, и Стаканский, мелко строчивший свой роман, мгновенно ввел в вестибюль отеля громогласного, длиннорукого Шмаха, который уже хлопал Анджа по плечам, тискал и тащил вниз — в лабиринты ночных улиц Парижа…)
Андж выписал себе восьмидесятитомное посмертное собрание сочинений Лермонтова и прочитал взахлеб, царапая ногтем поля. На свою сторублевую стипендию он купил себе призрак автомобиля и призрак радиолы, значительно уцененные, он пил уцененное пиво, катаясь на пивном трамвае, который кружил по городу, напаивая всех желающих из автоматов, подобных газированным (писательское предвидение: пивные автоматы появились гораздо позже) в темных переулках родной Сретенки Андж как-то ночью, при снеге, выследил уже совсем не ожидаемого проницательным читателем Сталина (призрак великого грешника) и, применив ледоруб Троцкого, зверским образом еще раз его убил.