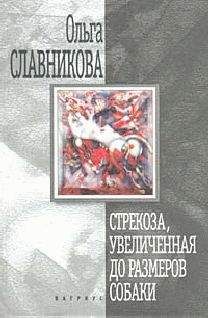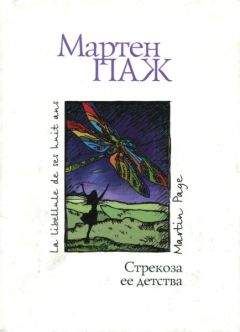Наконец девочка решилась посмотреть и увидела кровь: двойное жирное пятно. Она подумала, что, когда сбывается худшее, некоторое время все остается по-прежнему. Кое-как подложив носовой платок и запихнувшись в одежду – сначала один бок, потом другой,– девочка сошла на землю все с той же книгой, совершенно невесомой и неощутимой, как она ни сжимала ее в дрожащих руках. Далеко, за целым озером темноты, стрелял и обвивался красным дымом яркий костерок, красные и черные человечки валили в него какие-то легкие вороха, разлетавшиеся огненными клочьями,– и девочка, глядя на огонь, едкий для ее горячих глаз, думала, что с этой кровью ей не к кому идти и некому пожаловаться. Вероятно, она что-то сделала себе, когда давила живот, а может, так проявилось небывшее – нереальность, подмешанная в явь и превратившая часть воспоминаний в эпизоды сна,– вот и теперь уборная, стоило отвернуться, превращалась в собственный девочкин подъезд. Девочка знала, что не пойдет домой, потому что медицинская процедура, которую могут над ней сотворить, воображалась страшнее самого несчастья. Проще было умереть прямо на этом огороде, совершенно терявшемся среди окрестных земляных пространств, пересеченных мертвыми заборами и стоявших в темноте словно большие призрачные спальни. При мысли, что ее никто не пожалеет, девочка ощутила ко всем жестокое презрение. С неловкого размаху она поддала сандалией какую-то штуку, белевшую на меже: пустая картонка перевернулась в воздухе, и от этой перевернувшейся пустоты, легкости коробки мысль о смерти наполнила девочку невесомым ужасом; она уцепилась за голый куст, идущий корнями под землю. Только сейчас она ощутила слабый и голодный запах ничем не прикрытой, словно постель, разобранной земли.
Кто-то шаткий и длиннорукий двигался к ней по огороду. Иногда он шел углами между невидимых гряд, будто выполняя условия игры, иногда останавливался, смутный и смирный, ожидая, как видно, что девочка сама пойдет ему навстречу, и следующий шаг получался у него неловкий, точно с ноги у него спадал башмак. Девочка хотела побежать от него в дом, но желтое электричество уже осветило изъеденное лицо и жалкую улыбку, будто выползающую из-под какой-то тяжести. В земляном человеке девочка узнала давешнего дядьку за забором, и когда он присел перед нею на корточки, сходство сделалось полным. Отец бормотал, осторожно трогал ее за плечи, одна его щека была совершенно мокрая, и девочке почудилось, будто он рассказывает ей какую-то странную географию, где условные города представляют собой вокзалы с надписями на крышах и за каждый город прибавляются очки. Внезапно отец захлебнулся и припал к ней, девочка ощутила у сердца тяжесть его большой немытой головы. В отчаянии она оттолкнула кулаками покачнувшееся тело и бросилась в сторону: ей хотелось кричать и просить прощения, только бы отец ее отпустил. Но он, пошатываясь, волочась рывками, будто дочь его смертельно ранила, двинулся за ней через область самого сильного света, показавшего на нем пиджак с оттопыренными карманами, и девочку поразило, что его улыбка осталась неизменной.
Еще не совсем доставая, валясь вперед, отец неверной хваткой уцепил ее за локоть, а другую горячую лапу распластал на спине, где сразу собрались кипящие мурашки. Безошибочное чувство подсказало девочке, что так отец хватает и притягивает женщин, с которыми делает это, и она забилась, приседая к его коричневым брюкам, словно надетым на лошадь. Ей хотелось умереть сейчас, чтобы кровь ее буквально рухнула на землю, а на руках отца осталось бы безжизненное тело: пустое и чистое, оно могло бы сделаться прекрасным, как фарфоровая балерина или как возникшая в небе неведомо откуда ясная луна. От отца, или кто он был, разило почему-то ржавым школьным унитазом, а пиджак, когда девочка тыкалась в него лицом, издавал отдельный запах, платяной, застоявшийся, запах детского страха в закрытом шкафу. Внезапно девочка поняла, что отец желает помериться с нею ростом. Напряженной ладонью он ловил, будто муху, ее макушку, осторожно нес размер по воздуху, отмечая его себе на шее, на губах, а то, что все время оставалось наверху,– глаза под седеньким чубчиком, похожим на селедочный объедок,– выражало мучительную жажду, непонятную страсть. Действия отца были настолько странными, что не могли не означать чего-то иного, связанного с разницей в росте у женщин и мужчин. Девочка не могла понять: приготовление это, примеривание тела к телу или что-то уже происходит, что-то страшное и подчинившее себе бормочущего человека, вовсе, может быть, и не отца, как и мать ей, может быть, не мать, а чужая учительница.
На какой-то миг, ослабнув, сдаваясь участи, девочка перестала сопротивляться. Запалившийся мужчина привлек ее, привставшую на цыпочки, к себе на узкую грудь, и была минута какой-то небесной нежности, когда все вокруг словно замерло в воздухе, даже цепкие ветви кустов не смели соприкоснуться, только луна, будто сова на рябых простертых крыльях облаков, летела вниз, высматривая мышь. Казалось, половины пространства за спиною дочери и за спиною отца окажутся разными государствами, если они не обнимутся, нельзя будет даже перейти из дома в дом,– но вдруг девочка ощутила, что мужчина, обнимая ее, одновременно вытирает руку о ее задравшуюся кофту. По-звериному извернувшись, она впилась зубами в эту трясущуюся руку и, внезапно свободная, побежала туда, где играл и топотал неясно светившийся маленький дом. Чтобы до чего-нибудь добежать, надо было все время смотреть на это, ни на секунду не выпускать из виду, и все располагалось совершенно отдельно, на большом и темном расстоянии. Достигнув наконец калитки, издалека казавшейся преградой, на всякий случай держась за щеколду, девочка решилась оглянуться на отца. Он все еще стоял, пошатываясь, у распахнутой уборной и смотрел на девочку поверх ее уменьшенного роста, отмеченного странной тенью у него на шее. Не сходя с истоптанного маленького места, он так стремительно отодвигался в прошлое, что девочка словно уже вспоминала его, и встреча за пьяным столом, где преобладала широкая, как юбка, мерзкая гармонь, ничего не смогла изменить.
Вот от этого вечера, от первой женской крови и порожней открытой земли, у Катерины Ивановны осталась тайная привычка примеривать свой рост к росту некоторых мужчин, чьи греко-римские профили, часто в сочетании с лысинами, вдруг возникали в толпе, будто чужеродные редкости, и возбуждали в Катерине Ивановне смутные мечты. Мысленно уткнувшись в лоснистую щеку или в неожиданно уродливый, ядовитый рот, Катерина Ивановна, с пятном стыда во все лицо, устремлялась прочь, видя перед собой только кусочек асфальта, спешно высвобождаемый чужими шагающими ногами. Благодаря своей способности мысленно переноситься следом за взглядом, Катерина Ивановна как бы прислонялась к незнакомцу, чуть ли не прижималась к нему и оставалась с ним, даже когда убегала в смятении перед своим бесстыдством, пугаясь луж и отраженных, не совпадавших с лужами по форме белых облаков.
Целый день после этого она оставалась как бы не в себе, ее подчиняла любая музыка, по радио или из раскрытого, сияющего стеклами окна; она не в силах была уйти, пока не кончится песня, и даже под гимн ей хотелось если не станцевать, то хотя бы изобразить руками в воздухе что-то огромное, гораздо большее, чем можно увидеть с земли, заметно округляющейся под йогами, если привстать на цыпочки. В таком взволнованном настроении у Катерины Ивановны, обыкновенно предпочитавшей ехать даже одну остановку, появлялась в ногах удивительно ходкая прыть, обувь ощущалась парой лишних фигуристых вещей, мешавших в полной мере почувствовать свободу. С отрешенной улыбкой Катерина Ивановна неслась по тротуару, как-то все время вклиниваясь между беседующими или идущими друг другу навстречу людьми; знакомые части города делались тесны и неудобны, будто выстроенные в комнате, а перспективы неосвоенных улиц были как развешенные по стенам заумные картины, где вертикали и горизонтали более соответствовали действительности стены, нежели изгибы и глубина. Каждых мужчину и женщину, обращенных друг к другу, Катерина Ивановна принимала за влюбленную пару. Она не знала, что же с ней такое творится и как это связано с чувствами людей, вовсе ей не знакомых, попарно растворявшихся в сумерках и претерпевавших странные изменения, когда над ними зажигались фонари.
Так у Катерины Ивановны и не было того, что девчонки в классе и во дворе называли словами; «дружить» и «ходить». Даже когда невозмутимый биолог Павел Ильич рассказал научными словами про это и задал параграф, она все равно не смогла представить, как это происходит в действительности. Ей казалось, что желто-розовая схема в учебнике имеет не больше отношения к человеческой анатомии, чем круговая мишень на картонном силуэте, который военрук поставил в подвал для учебной стрельбы. Однако это было явно против комсомола и учителей, и все они вместе ничего не могли поделать, только злились и стращали исключениями из школы, чтобы старшеклассники отложили это на потом. Их бессильное негодование, пересушенные меловые руки мумий при багровых лицах, источавших фальшивую доброту, вызывали у девочки приступы тихого злорадства. Каждый старшеклассник имел природное орудие – себя,– чтобы отомстить за дисциплину, за литературную любовь классических дворян, насолить директрисе, что, нарядившись пуще всех на школьные танцы, ласково подкрадывалась и разнимала слишком тесные пары, перекладывала их руки друг на друге, влезала на место партнерши, показывая пример горделивой осанки, после чего застигнутые ковыляли по залу на манер ожившей табуретки, желая только, чтобы поскорее закончилась музыка.