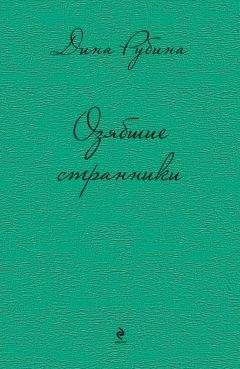Помнится, перед отъездом наш друг, художник Саша Окунь, говорил: ребята, сначала следует объездить весь мир, чтобы потом до конца жизни ездить только в Италию.
По возвращении я встретила Самуила Шварцбанда, известного ученого, слависта, пушкиниста. При первой возможности Сеня срывается с места и мчится на благословенный Апеннинский полуостров. Он сказал:
— Ну, ты все поняла? Что надо ездить только в Италию?
— Почему? — спросила я, хотя, в сущности, была уже с ним навсегда согласна.
— Да чтобы время не терять! — воскликнул он.
Ну что с них взять: и Сеня, и Сашка — италоманы, итало-маньяки, итало-фанаты…
А я?
Я в своих странствиях — как праздных, так и «коммерческих», всегда в уме слегка прикидываю на себя страну — могла бы здесь жить? И каждый раз выходит — нет, не очень… Да нет, совсем не смогла бы… Хотя иные красоты, иные пейзажи, иные детали очень пленяют…
И вот я думаю — а может, я уже израильтянка? Похоже, так… Хотя бы потому, что не выношу звука льющейся без пользы воды.
«А не здесь вы не можете не ходить?!», или Как мы с Кларой ездили в Россию
Эмиграция, плаванье в океане, все дальше от берега, так что мало-помалу покрываешься серебристой чешуей, с залитыми водой легкими; с незаметно выросшими жабрами; эмиграция, превращение в земноводное, которое в состоянии еще двигаться по земле, но уже мечтает о том, как бы скорей окунуться в воду…
Борис Хазанов. Жабры и легкие языка
Семь лет — как время-то бежит, страшно подумать! — семь лет я здесь обливаюсь потом с апреля по октябрь, с октября же по апрель трясусь в промозглой сырости, свитера сушу на переносной батарее.
А в Россию — ни ногой. Года четыре назад, правда, сунулась было на недельку, в составе израильской делегации на Международную книжную ярмарку, но в панике бежала: я, как выяснилось, забыла размеры государства, обалдела от ширины улиц, высоты зданий и деревьев. К тому же друзья задавали идиотские вопросы — правда ли, что я в субботу не езжу на машине? — тоном, в котором слышался деликатный ужас.
Кроме того, на ярмарке, в израильский павильон, где я должна была с утра до вечера отвечать на вопросы граждан, забредало немало сумасшедших и самых разнообразных чудиков.
Один, с папочкой под мышкой — военная выправка, — строго спросил:
— Вы где живете?
— В Иерусалиме.
— Ага! — воскликнул он деловито, вынимая папочку. — Очень хорошо. У меня к вам поручение. Я кадровый военный, всю жизнь пишу детские стихи. Вот тут двадцать семь стихотворений, итог творческого труда моей жизни. Вы передадите в издательство, чтоб они там перевели эти стихи на санскрит.
— Вам, по-видимому, не сюда, а в соседний павильон, — сказала я. — В Израиле говорят на иврите.
— Это неважно! — ответил детский военный поэт. — Я и имел в виду этот… ну, туземный их язык. Хочется быть полезным своей стране.
…Другой тип, сдержанно-агрессивный, с белым бобриком на затылке, аккуратно подкрался ко мне сзади, тихо спросил, указывая на еврейский календарь в руке:
— Скажите, пожалуйста, вот это — что значит?
— Это календарь, — ответила я доброжелательно. — Еврейское летоисчисление.
— Нет, вот это. — В его голосе слышался азарт, вкрадчивый восторг и сжатая в пружину ненависть. — Вот эта дата: пять тысяч семьсот пятьдесят третий год. Что это значит?
Я взглянула ему в глаза. Сразу все вспомнила, от чего уже отвыкла: остановку троллейбуса на улице Милашенкова, всю обклеенную воззваниями «Памяти», газетенку «Пульс Тушино», чугунные лица таможенников в Шереметьеве.
— Это значит, — сказала я вежливо, — что мы себя помним пять тысяч семьсот пятьдесят три года, а вы себя — только тысяча девятьсот девяносто три… И то — не вы, а Европа, и опять-таки не без нашего участия.
И — мысленно — сама от себя отшатнулась, будто со стороны услышала свой голос: «вы», «мы»… Это я-то, пишущая, думающая, дышащая по-русски!.. Казалось: проведу рукой по грудной клетке и нащупаю шов, грубый, незарубцевавшийся, коллоидный безобразный шов на моем, рассеченном надвое, естестве…
Словом, в тот раз из Москвы я бежала, как Наполеон в снегу — увязая по колено, по пояс в своих обидах, неутоленной горечи, отчужденная, неприкаянная — и не прислоненная ни к кому, ни к чему.
(Собственно, чувство как для еврея, так и для писателя привычное).
Ну и вот, спустя четыре года звонят из одного серьезного учреждения, предлагают на этот раз поехать выступать в Россию и Украину, как обычно я разъезжаю по другим странам.
Я задумалась, честно говоря. По другим-то странам я разъезжаю, как офеня — с котомками, груженными книгами, пользуясь полной и абсолютной свободой слова — как печатного, так и непечатного.
Хоть и сама себя оплатчик, зато сама себе ответчик, сама себе хозяин, сама себе бурлак. Как говорится — «не мята, не клята…».
А тут — кто их знает, стелют-то мягко… Только не люблю я все эти государственные конторы независимо от страны проживания.
Пока раздумывала — ко мне прицепилась Кларочка Эльберт, директор Иерусалимской русской библиотеки. Мась, говорит, возьми меня с собой. Я тебя не обременю, я тебя слушаться буду. Мы, говорит, там с тобой прорву дел провернем!
Знаю я ее прорву дел. Будет как одержимая отовсюду книги собирать для своей библиотеки — с населения, с библиотек, с организаций, с издательств. Ведь именно так она насобирала свою, уже знаменитую, Иерусалимскую русскую библиотеку. Никто ей отказать не может.
Как там у Булгакова? — «Пусть Бегемота посылают, он обаятельный…»
Кларик, вообще-то, как у меня уже воспето в романе, — дама очаровательная и даже обольстительная, но после тяжелой болезни плохо слышит.
Эта якобы незащищенность и хрупкость призваны скрывать то очевидное для всех обстоятельство, что Клара — человек государственного ума и выдающихся дипломатических качеств, словом — деятель международного масштаба.
К тому же как попутчик и компаньон она совершенно необременительна: никогда не будет качать права по пустякам — скажем, спорить, каким транспортом или какой дорогой куда добираться. Она предпочитает во всем вам довериться. Никогда не станет спорить, что готовить на завтрак и какой чай выбрать. Наоборот: предоставит вам возможность налить ей чай, положить на свой вкус сахар и размешать ложечкой.
— Я, пожалуй, отдам тебе Кларины документы, — сказал мне ее муж Коля в аэропорту, — она обязательно потеряет. И вообще, присматривай там за ней.
Как-то так само собой вышло, что я стала техническим директором концессии. Клара — ее летучим ангелом. Сиреной, какие украшали когда-то носы кораблей.
Перед поездкой, дней за пять, нас вызвали проинструктировать.
Учреждение, повторяю, серьезное. Когда-то организация засекреченная, ну, а теперь — чего там секретить? Но у них, видать, все еще не перестроились.
Инструктировали нас в трех кабинетах. В первом сидела девчонка, лет двадцати трех, офицер госбезопасности.
Мы чинно уселись, я — справа от Кларика, потому что правым ухом она все-таки что-то слышит, когда движением мизинца вкручивает слуховой аппарат.
— Мне не надо вам рассказывать, — начала девочка-офицер, — в какую опасную, тяжелую страну вы едете. Для собственной безопасности вы должны запомнить несколько жестких правил поведения: прежде всего, в первое подъехавшее такси не садиться, садиться во второе.
Я посмотрела на Клару: она сидела с кротким видом. Я люблю смотреть на нее, когда у нее отрешенное выражение лица. Ни за что не скажешь, что в этот момент она прикидывает, не убрать ли директора Форума с занимаемой им должности.
— Видишь ли, мотэк, — говорю я девочке-офицеру, — я, вообще-то, родилась в этой опасной тяжелой стране, и на моей памяти — первое такси там может проехать в десять утра, а второе — в десять вечера.
— Во-вторых, — продолжала та, не обращая на меня внимания, — вы, наверное, захотите навестить каких-то там друзей или родственников?.. (Она сказала небрежно по-русски — «дачи-шмачи».) Так вот, если вы куда-то собрались, вы должны связаться с посольством Израиля и сообщить, куда едете. Потому что, если случится нечто непредвиденное, вы знаете, как Израиль трепетно относится к вопросу перевоза останков на родину.
Тут Кларик встрепенулась и спрашивает меня:
— Чьих останков, мась? Чьих это останков?
Я отмахнулась, говорю — расслабься, не дождутся.
А девочка-офицер продолжает инструктаж.
— Конечно, — говорит, — плохо, что вы летите самолетами. Просто, — говорит, — не знаю, что с этими самолетами делается: падают и падают, ну, падают и падают… А вообще, я уверена, что на этот раз все обойдется, и желаю вам приятной поездки.
Потом нас завели во второй кабинет. Там сидела баба, тоже офицер. Кларик опять садится от меня справа, чтобы я ей в ухо орала.