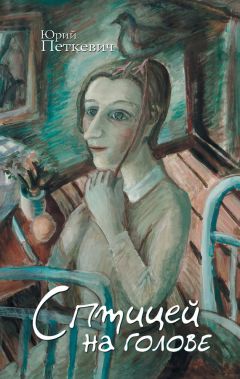— Ты что, не видишь — мне неудобно играть, — прошептала. — У тебя голова тяжелая, как гиря. Встань! — Опустила крышку пианино и сама поднялась со стула. — Давай хоть немножко поспим.
Не раздеваясь, легла лицом в подушку, а я целовал ее волосы.
— Пусти, — пробормотала Соня, слезая с кровати. — Закрой глаза.
Я услышал, как она за шкафом раздевается, и у меня так застучало сердце, как никогда не стучало, и я не мог расстегнуть пуговицы. Когда я открыл глаза, Соня, в ночной рубашке, нажала на выключатель, но было утро, а не вечер, и она свет не выключила, а включила.
— Автоматом, — пробормотала она, поспешила выключить электричество и легла рядом со мной.
Я осмелился дотронуться до нее.
— Какой ты горячий, — изумилась Соня.
— Ах! — не вытерпел я.
— Не переживай, — пожалела она меня.
— Я очень долго тебя ждал, — объяснил я.
— Еще успеешь, — улыбнулась Соня. — Давай спать!..
Она закрыла глаза и, казалось, уснула. Я тоже закрыл глаза, но заснуть не мог. Через минуту почувствовал, как ее реснички царапают мне щеку, и открыл глаза.
— Ты не спишь?
— Я уже выспалась, — ответила Соня. — А ты поспал?
— Не могу уснуть, — говорю. — Пошли гулять…
Солнце, высоко поднявшись, начало припекать. По улице слонялись куры с разинутыми клювами. На жаре после бессонной ночи совсем разморило. Голова моя была тяжелая, как гиря. Я взял Соню под руку, а идти вместе — у нас ноги переплетались. Подойдя к речке, мы легли в траву и обнялись, не волнуясь — видит ли нас кто или не видит. Солнце жгло невыносимо, а на голом берегу ни одного деревца, чтобы укрыться в тени.
— Давай, — предложила Соня, — искупаемся.
— Еще усну в воде, — испугался я.
Мы поднялись и побрели дальше по берегу. Под мостом Соня сбросила с себя кофточку, затем и лифчик. Над нами проезжает машина, бревнышки перестукивают под колесами одно за другим, а я ухватился за Сонины груди, словно за какие-то мешки, словно кули какие-то, и почувствовал, будто у меня на голове не волосы, а бревна…
— Ох! — вздохнула Соня.
— Чего? — спрашиваю.
— Ноги, — отвечает, — не держат.
Когда мы потом взобрались на мост, опять едет грузовик. Из кузова зерно сыплется. Тут же голуби кружат. На перила села маленькая птичка, глянула на меня бусинкой и вспорхнула. Соня достала из сумочки зеркальце и поправила прическу.
— Куда пойдем?
Я не помню, как мы очутились за вокзалом у заброшенного фонтана. По перрону, ожидая поезда, снуют люди с чемоданами. Мужчина несет ребенка на плечах, остановился — на ботинке развязался шнурок. Жена нагнулась и завязывает ему шнурок, а этот мужчина оглянулся на Соню, и я обнял ее.
— О чем ты думаешь?
— Я, — отвечает, — думаю о том, о чем и ты думаешь.
Я не смог удержаться, поцеловал Соню и засмеялся. Скрипит на велосипеде старик, объезжает вокруг фонтана. Одной рукой держит руль, а другой — держится за сердце. За стариком бежит мальчик — нехотя подглядел, как я поцеловал Соню. Тощий и бледный, он опустил глаза и побрел дальше, затем еще раз оглянулся — не на Соню, а на меня, — и я почувствовал, как горят щеки; мне стало стыдно перед этим бедным мальчиком за свое счастье. Я зашагал быстрее.
— Куда ты? — догоняет Соня.
На привокзальной площади рядом с автостанцией столики под зонтами. Я зашел в кафе, и Соня за мной, но тут же повернула назад.
— Душно, — сказала она. — В жару лучше на воздухе.
От стены падала серая тень. Мы сели за один из столиков в тени и заказали по тарелке борща. Люди после поезда разошлись, разъехались, и площадь перед вокзалом опустела.
— Чего ты молчишь? — спросила Соня.
— Не знаю, что сказать, — ответил я.
Вскоре подоспел официант с подносом и поставил перед нами тарелки. Поднялся ветер, зонтик захлопал над головой — столик покачнулся, и борщ из тарелок пролился. Мы схватились за столик.
— Терпеть не могу, — пробурчал официант, — подавать на эти столики.
— Надо поставить нормальные столики, — сказала Соня.
— Это не мне говорите, — заявил официант и ушел.
Ветер усилился; столик стоял на одной ножке, сплюснутой как у рюмки внизу, и, чтобы он не качался, нам пришлось придерживать ногами эту ножку — и так вот ели, а зонтик надувался парусом.
— Куда ты смотришь? — заметил я.
На дедушкином велосипеде едет назад тот мальчик, который подглядел, как я поцеловал Соню. Ветер дунул сильнее и перевернул один из столиков — выбежали рабочие и унесли под крышу остальные. Мальчик проехал мимо, но развернулся и у кафе остановился.
— Почему он так смотрит на тебя? — удивилась Соня. — Не улыбайся!
— Разве я улыбаюсь?
— Посмотри, — достала из сумочки зеркальце.
Я посмотрел на себя в зеркальце и пожал плечами.
— Не знаю, — говорю, — почему он так смотрит на меня.
Рабочие ожидали в дверях, когда мы уйдем, чтобы убрать и наш столик. А мы еще хотели здесь побыть, но очень тяжело сидеть, когда над тобой стоят, и мы ничего уже не могли сказать друг другу.
— Позовите официанта! — попросил я рабочих.
Они стояли рядом с мальчиком, а тот по-прежнему не сводил с меня глаз. Соня наконец догадалась, почему он так смотрит на меня, и тоже так посмотрела. Наконец подошел официант, и я поспешил расплатиться, кожей ощущая, как все смотрят на меня. Соня вдруг вскочила и побежала.
— Куда ты? — догнал я ее.
На проводах над перекрестком светофор. Не помню, на какой цвет надо переходить улицу. Перебежали, идем дальше, к следующему перекрестку. Еще один светофор. Непонятно, зачем они висят. Пока прошли от одного светофора к другому — не проехала ни одна машина и не показался ни один человек.
— Только не молчи! — взмолилась Соня. — Смотри!
Едет грузовик. В кузове стоит лошадь — проехала рядом со светофором; еще чуть-чуть — и светофором по морде. Мы свернули в переулок, где не асфальт, а песок. У заборов крапива исторгала такие резкие, острые запахи, как от бродяг на вокзале. Я вошел за Соней в калитку, поднялся по крыльцу в дом и, закрыв за собой дверь, услышал, как сердце не умещается в груди, а Соня схватила меня за руку и подтащила к зеркалу.
— Не отворачивайся! — попросила.
Смотрю на себя и улыбаюсь, а она вдруг размахнувшись ударила меня, ударила больно, но больше я был удивлен. Соня расплакалась; я гладил ее по вздрагивающей спине, целовал, а потом, когда она успокоилась, спросил:
— За что же ты меня ударила?
Опять у Сони слезы; я шагнул к зеркалу — и тут же отвернулся от расплывающейся от счастья улыбки…
Возвращение на родину
Хроника
Когда у моего дяди умерла жена, бедняга сильно переживал, так что места себе не находил. Невозможно было равнодушно смотреть на его страдания. Зная про редкую любовь между ним и покойной и предполагая, что участь его облегчится, если дяде мысленно перенестись в иные времена, когда любимая женщина находилась рядом, — я предложил ему написать воспоминания о чудной возвышенной любви. Дядя с восторгом откликнулся на мое предложение. Ему нужно было некое дело, которое отвлекло бы от сегодняшнего дня. С вдохновением принялся он за писание. Однако, нацарапав с десяток страниц, — задумался. Начал он с того дня, когда впервые увидел умилившую его сердце, но затем понял, что воспоминания следует начинать с давних времен — еще до появления себя на свет, так как осознал, что ничего случайного в жизни не бывает, а все происходящие в ней события служат для возникновения любви. Снова взялся дядя за свои воспоминания — уже с лет, предшествующих его рождению, но, написав несколько страниц, опять приуныл. «Какие, дядя, появились новые трудности?» — спросил я, имея определенный литературный опыт. «Описываю события, происшедшие до моего рождения, по рассказам родителей и старших братьев, но часто одни родственники рассказывали одно, а другие другое про одно и то же…» — «Так в чем дело? — рассмеялся я. — Записывайте так, как вам покажется вернее и… прекраснее». — «Печальнее? — переспросил дядя, не расслышав или понимая прекрасное — как печальное или печальное — как прекрасное. — И еще: часто мои родные совершали поступки дурные, например — хотя бы и твой отец смолоду, — дядя опустил глаза, застыдившись меня, будто сам был виноват во всем… — и другие твои дядья, и мне неловко писать нехорошее как про умерших, так и про живых…» — «Из этого положения можно выйти, — подумал я и предложил дяде изменить реальные имена на вымышленные… — И вообще, можете написать свою повесть от третьего лица; вы почувствуете себя свободнее, когда захочется выразить чувства сокровенные…»
Дядя умер, так и не окончив воспоминаний. Смерть застала его в ту минуту, когда он описывал впервые увиденную свою будущую супругу. Наверное, мой дядя разволновался, припоминая встречу, до такой степени, что сердце его не выдержало. Я чувствую значительную вину в его смерти и теперь сожалею о том, что предложил дяде взяться за перо, хотя, может быть, воспоминания и продлили его жизнь. Впрочем — кто знает…