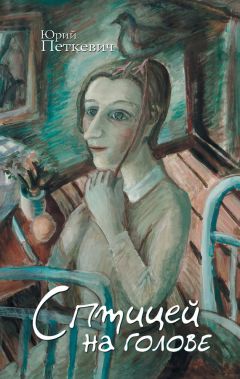— А ты заметила? — удивился я. — Встретил сейчас на остановке свою первую любовь, — как ни в чем не бывало говорю, — сделал такое лицо, будто вижу ее впервые, и отвернулся.
— Почему?
— Она наверняка бы спросила про мои дела, а что я бы ей ответил?
— Чего ты прибедняешься? — ухмыльнулась Ася. — Тебя сегодня видели, как ты выбирал костюм в одном из самых дорогих магазинов, куда даже мой муж не заглядывает.
— Кто же это мог видеть меня там, если даже твой Анареев туда не заглядывает? — сказал я, удивляясь, какой у нее появился любовник, и Ася прикусила язык — как легко можно проговориться.
Мне не дал погрустить Анареев — явился в новом пальто.
— Ну как? — спросил, поворачиваясь перед зеркалом.
— Отлично! — восхитился я, и Ася подхватила: — Очень хорошо!
— И я тоже так думаю, — еще раз он поглядел на себя в зеркале и захохотал. Анареев так хохотал, что слезы вытирал с лица. — Фу, устал, — вздохнул, а я по себе знаю, если так смеяться, конечно…
— Что такое?
— Устал, — повторил Анареев; у него на лице появилось выражение, какое бывало, когда он работал дворником на кладбище. И вдруг прошептал мне на ухо: — Слушай, а та официантка вчера — она ничего!
Я чуть не сказал ему: спасибо, что напомнил; уже забыл, что договорился встретиться. Я посмотрел на себя в зеркало и сделал холодное лицо, чтобы не потерять голову перед встречей с официанточкой; кажется — ты еще мальчишка и все впереди. Снял с вешалки куртку и тут же уронил, затем шапка на полу.
— Куда ты спешишь? — спросил Анареев.
На улице опять метет, как зимой. Я прибрел к пустырю у железной дороги. Вокруг так бело, что хочется выпить. На привокзальной площади никого — кажется, что я в поле, и вокзала за метелью не различить. Вдруг стихло — надолго ли; как будто глубокий вздох слышу; обернулся — среди снега огненного цвета волосы. Люба машет рукой; с короткой стрижкой она будто помолодела и счастлива.
Поезд остановился среди поля. Вдруг сделалось очень тихо, так тихо, что в ушах зазвонил телефон, много телефонов. Я открыл окно. Сильный ветер. Яркое солнце на синем небе. Что-то еще свистит.
— Юрр, — позвала.
— Тише, — прислушиваюсь.
— Я приготовила.
— Что — приготовила? Прошу тебя — помолчи.
Наконец сообразил. Рядом с железной дорогой — шоссе. Под ним проложена в ложбине бетонная труба — и это ветер свистит в ней. По ту сторону шоссе на железной цепи лошадь. Зевает.
— А теперь — можно? — спрашивает Даша.
— Что — можно?
— Ничего, — рассердилась. — Кушать подано!
— Никогда не видел, — присаживаюсь к столику, — как кобыла зевает, — и сам зеваю.
Открываю бутылку вина.
— Чего мы стоим? — спрашивает. — В поле…
— А куда нам спешить? — налил и ей.
Даша подняла стакан и выпила. Тут вагон так дернуло, что у меня из полного пролилось.
— Не надо много рассуждать, — говорит.
Голый пейзаж за окном поплыл. И я выпил.
— Какая гадость, — скривился.
— Закрой окно, дует, — попросила Даша.
— Минуточку, — закусываю.
— Как хорошо, что взяли общий вагон, — сказала Даша.
— Закусывай, — говорю ей.
— Холодно.
Я закрыл окно.
— Закусывай, — повторяю.
— Есть не хочу. Еще выпить.
Налил ей, не успел — себе, Даша уже выпила. Глаза ее делаются прозрачней, ангельское лицо бледнеет.
— А я проголодался, — будто оправдываясь, наворачиваю.
— Хорошо, что взяли общий вагон, — повторяет.
— Почему?
— Одни в вагоне.
— Это случайность. Обыкновенно на третьих полках спят.
— Почему ты все время улыбаешься? — спрашивает Даша и сама себе наливает.
— Ты что-то много себе позволяешь, — говорю.
— А ты же меня не знаешь, — говорит.
— Я — тебя? — усмехаюсь.
— Так — почему?
— Что? — не понял.
— Что за чертовская улыбочка? — прошептала и обольстительно улыбнулась сама.
— Привычка.
— Странная привычка. Когда вот этот глаз косой и еще улыбка — у тебя получается не лицо, а свиное рыло. И — с каким выражением, если бы ты знал!
— С каким?
Она молчит.
— Чего не отвечаешь?
— Слов не нахожу. Но я тебя не боюсь. Слышишь?!
— Слышу.
— Мне тебя жалко.
— И какой еще глаз косой? — спрашиваю.
— Вот этот — когда выпьешь.
Я встал, иду, дернул за ручку — проводник выглянул из своего купе.
— Открыто в том конце.
Иду назад; когда проходил мимо Даши, она проговорила:
— Дурак…
Иду дальше. На скамье лежит девица. Поднимает голову. Волосы спутанные, и взгляд испуганный. Оказывается, не одни мы в вагоне. Действительно, открыто. Захожу. Окно замазано белой краской. В щелку врывается ветер. Я посмотрел на себя в зеркало. Нормальные глаза. Чего она выдумала? А где же улыбочка? Пожалуйста. Ничего с собой не поделаешь.
— Уже приехали, выходим! — Даша стучит кулаком в дверь.
Я бегу за ней по вагону в другой конец, где выход. За окнами замелькали стены и столбы. Столбы дыма. На солнце дым сверкает, как стекло.
Даша показывает:
— Смотри, твой папа!
Поезд остановился у вокзала. Совсем рядом по перрону прошел папа под руку с девушкой. Я посмотрел на нее и сразу вспомнил о лошади на железной цепи. Лошадь была похожа на нее, или, вернее, она была похожа на лошадь, которая зевала.
Я вышел с Дашей из поезда. По перрону едет на велосипеде мужчина в клетчатом пиджаке и держит на поводке большую черную собаку. Она бежит рядом чинно… Вдруг выскочили три дворняжки. Мужчина в клетчатом пиджаке успел отпустить поводок. По мосту над путями идут солдаты. Как по команде оглянулись на собачий визг. Мужчина слез с велосипеда. Черная собака вернулась к нему. Поводок по асфальту — как колокольчик. Что-то на нем металлическое. Блестит. Колечко. Велосипедист в клетчатом пиджаке нагнулся за колечком и поехал дальше. Большая черная собака еще несколько раз гавкнула. Черная пасть. Солдаты спустились с мостика на второй путь. Сержант скомандовал: «Стой! Раз-два». Кто-то еще топнул. Сержант внимательно… У него на деревянном лице собачьи глаза. А у солдат за спинами в мешках лебединые крылья; никто, конечно, не видит, а я знаю. Вот и папа идет с бананом около дворняжек. Они еще рычат и смотрят в сторону удаляющегося велосипедиста. Глаза у них у всех голубые, как у солдат. У папы на лице слезы. Нехорошо подсматривать, но так получилось. Я взял за руку Дашу и пошел вслед за папой.
— Ты плачешь? — спросила у него девушка.
— Это от ветра, — сказал папа.
— Я бананы не ем, — продолжает девушка. — Ты позвонил?
— Да.
— Неприятная новость?
— Да, — кивнул папа, — то есть — нет.
— Я же вижу.
— Успокойся, — пробормотал папа.
— Мне-то что, — говорит девушка. — Я бананы не ем, — повторяет, — не ем.
— Почему?
— Не люблю.
— Почему?
— У них вкус мыла.
— Кто тебе сказал? — и тогда папа сам откусил. — Было еще мороженое, но сегодня и так холодно. Что же тебе купить?
— Колечко.
Они подошли к магазину — уже закрыт. Повернули на пустынную улицу, папа выбросил в кусты шкурки от банана и поцеловал девушку. По улице проскрежетал мотоциклист.
— Ах! — вскрикнула девушка.
Она выбежала на дорогу, присела на корточки, затем вернулась с птичкой в руке.
— Отнеси ее и положи подальше в кусты, — сказал папа. — Может, оживет.
Девушка понесла птичку, а я смотрел на закат. Очень мне тревожно становилось, глядя на пылкие краски. Они разгорались все ярче, притягивали взор — и оторваться от этого прекрасного каждый вечер зрелища не было сил. Деревья в парке почернели, а подстриженная трава приобрела очень яркий, неестественный для живого холодный, даже ледяной оттенок.
— Ах! — поморщился я.
— Что? — спросила Даша.
— Мошка в глаз попала.
— Не три, — сказала Даша, — дай посмотреть.
Достала носовой платочек и тоненькими пальчиками оттянула мне веко. Я замер, еле сдерживал себя, чтобы не взмахнуть крыльями… затем проговорил:
— Холодно, не иначе снег пойдет, а мошкара кружится.
— Готово, — показала Даша на платочке.
— Наверно, та птичка ловила мошек, — догадался я.
— Она умерла, — пробормотала, вернувшись к моему папе, девушка. — Потянулась, закрыла глазки, затрепетала и умерла.
— Как жалко! — воскликнул папа.
— Нажимаю на клавиши, будто клопов давлю, — вздохнула Соня, играя на пианино, а я упал перед ней на колени, уткнулся лицом в юбку и закрыл глаза, обнимая.
И, когда я ее обнимал и не дышал, она еще раз вздохнула.
— Ты что, не видишь — мне неудобно играть, — прошептала. — У тебя голова тяжелая, как гиря. Встань! — Опустила крышку пианино и сама поднялась со стула. — Давай хоть немножко поспим.