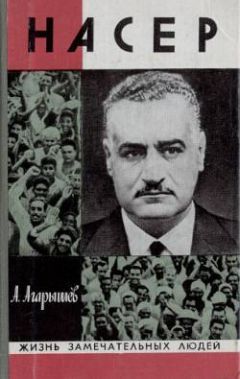«Наверное, этот день был самым прекрасным в моей жизни. Прекрасным, как синагога, рождение которой мы тогда праздновали. Любопытно, что сам архитектор утверждает, будто хотел создать стилизованное изображение Скинии завета, шатра, который у евреев был в пустыне. Не знаю... Если и так, то шатер в его воображении имеет мало общего с тем, что описан в Торе. Как бы то ни было, больше всего синагога напоминает птицу, расправляющую крылья.
Знаете, однажды мы с Натаном навещали нашего знакомого в Хайфе. Пятнадцатилетний сын хозяина как раз второпях собирался на дискотеку, когда вошли мы – двое невесть откуда забредших дядек в полотняных брюках с карманами всюду, где только можно, в кипах крупной вязки до самых ушей и с всклокоченными бородами, тоскующими по ножницам. Он довольно долго с изумлением нас рассматривал, прислушиваясь к разговору, который мы вели с его отцом. И до того заслушался, что в правый рукав красной майки с портретом Гевары руку просунул, а про второй-то и забыл. Так и сидел, полуодетый, и слушал, слушал, слушал... А потом спросил: «Вот создали вы в горах поселение, стали в нем жить. А что вы там делаете-то?» Я, честно говоря, смешался, а Натан прямо в глаза ему взглянул и ответил: «Музыку пишем. Для птиц». Вот эту его реплику я вспоминаю всегда, когда вхожу в нашу синагогу. Особенно, когда во время молитвы открываю тарон акодеш, чтобы достать свиток Торы. В других синагогах это или выкрашенный в коричневый цвет большой металлический ящик на ножках или небольшая ниша в стене, опять же отделенная металлической дверцей. И все это за пурпурной бархатной завесой, именуемой парохет. А тут, представляете, парохет из какой-то нежной ткани, за ней ажурные врата, а там – маленькая полукруглая зала, где вдоль стены расставлены свитки Торы в разноцветных бархатных чехлах. И свет такой туманный, а в нем мерцает золотая отделка свитков. Напоминание о Святая Святых, что когда-то была в нашем Храме. А над вратами – подсвечиваемый изнутри витраж. На нем алые буквы, изображенные в виде языков пламени, складываются в строку «Всегда предо мной Вс-вышний – я не поколеблюсь!» Вот я и говорю, что этот день – день, когда мы в нашу новую синагогу торжественно вносили свитки Торы и когда впервые под ее крылатыми сводами звучали слова молитвы, – стал самым прекрасным днем моей жизни. И не только потому, что я не видел ничего прекраснее нашей синагоги, но главное – потому что вдруг поверил: теперь мы здесь – навсегда. Кто бы ни пришел в нашей стране к власти – они могут отдать приказ рушить дома. Но синагогу? Да еще такую? Они же евреи!..»
* * *
Шоссе вилось по дну глубокого ущелья. Домов не было, но то тут, то там в лучах луны белели оливы. Дорогу охраняли ажурные высоковольтные вышки, похожие на уэллсовских марсиан. Затем горы стали чуть пониже, и над хребтом вдали вспыхнул белый огонек, который можно было бы принять за звезду, если бы над ним не горел еще один огонек – красный, венчающий высоковольтную конструкцию. Вика чуть сбавила скорость. В лучах фар худосочные и кривые ханаанские дубы шевелили изрезанными листьями, ничуть не напоминавшими традиционные дубовые.
Вика затормозила и съехала на обочину. Под колесом хрумкнула свежая трава. Вика распечатала пачку «Мальборо-лайт», достала сигарету и чиркнула зажигалкой. Закрыла глаза. Нет, Эван жив. Будь он убит, она бы сейчас это увидела. Откуда такая уверенность? Может, оттого что, вопреки сентенциям Эвана, она смотрела не в одну с ним сторону, а на него?
Все равно – какая бы путаница ни вышла с Канфей-Шомроном, они с Эваном одно целое – и точка. Он ее башерт, а она – его. Родители за тридевять земель привезли ее сюда из Москвы, а он приехал из своего Бостона, а может, из Вирджинии, чтобы две половинки, затерянные на разных концах земли, встретились в полутемной ариэльской синагоге – не чудо ли! Вика вспомнила, как сама тогда же, в синагоге, смеялась над«вывертами» религиозных вроде «вот, двое предназначенных друг другу встретились. Какое чудо!» Как молила Творца сотворить настоящее чудо. И здесь, на дне извилистого ущелья в горной глуши Самарии под небом, полным лунного света, Вика поняла, что чудо, которое произошло с ней, – самое настоящее.
Почти непроизвольно она нажала на педали, и «фиат», тронувшись с места, выехал на шоссе. Она помнила, что нужно ехать вперед, пока не упрешься в перекресток с красивым арабским названием Джинсанфут, там повернуть направо, а дальше... дальше – куда глаза глядят, дальше ехать, полагаясь на Вс-вышнего, умоляя его спасти Эвана и повинуясь своей интуиции, граничащей с ясновиденьем.
Вика выехала из ущелья. Вот и Джинсанфут. Закончен подъем по стволу буквы «Т». Она уперлась в верхнюю перекладину, резко крутанула руль, и машина поползла вправо по перекладине. В лучах фар засветился ярко-зеленый щит с белыми буквами «Шавей-Шомрон 11 км». Это хорошо. Она помнит, что Шавей-Шомрон по пути к Канфей-Шомрону. А откуда ей известно, что Эван добрался до Канфей-Шомрона? Ниоткуда. Но – жив, значит, доберется. И если она доберется раньше, то двинется ему навстречу. Логично, правда?
* * *
В отличие от Ниссима, Иегуда Кагарлицкий кряхтел, мысленно проклиная минуту, когда он решил присоединиться к экспедиции. Неловко ему было, видите ли, сорокавосьмилетнему, отлынивать, коли пятидесятисемилетние рав Хаим с Натаном Изаком идут. Так какая у них подготовка, и какая – у него! Они – один танкист, другой спецназовец, а его тридцать лет назад из-за порока сердца в армию не взяли. Он не шибко из-за этого переживал – армия-то советская. Никакого у него не было желания мир для коммуняк завоевывать. И всю жизнь сердчишко ни капли ему не мешало – и курил он вволю, и на пирушках от других не отставал, и с дамами сил не жалел, пока религиозным не стал, и даже мастером спорта был, а главное – работал на износ, и все – с детьми...
Они вывалились на небольшое плато, и рав Хаим объявил:
– Тридцать пять минут отдыха.
В течение двух минут все, шурша сухой травой и вещами, вытаскивали из рюкзаков одеяла, а еще через полчаса – Иегуда ушам своим не верил – отовсюду раздавался дружный храп. Казалось, он единственный на всем земном шаре… может, не на всем, а только на Ближнем Востоке, кто сейчас не спит, а сидит по-турецки на рюкзаке и думает, думает, думает. О чем думать – было. Здесь, в Канфей-Шомроне, он когда-то нашел дело своей жизни.
Начало девяностых. Миллионная алия из бывшего Советского Союза. Первым сотням тысяч израильтяне улыбались, как новообретенным братьям. Потом устали улыбаться. А потом все громче зазвучало «Русим масрихим, абайта!»{Вонючие русские, убирайтесь домой!} В израильских школах русскоязычных подростков никто не спешил обучать ивриту, а вот хамства со стороны одноклассников, а то и учителей, они нахлебались от пуза. Несколько лучше дела обстояли в религиозных школах, но, во-первых, не всегда и не во всех, а во-вторых, репатрианты из СНГ боялись религиозных школ, как огня, а русскоязычная пресса эти страхи только подогревала. Так что и в «ультраортодоксальных», и в «вязанокипных» школах оказывались единицы. Десятки тысяч маялись в светских школах, сбиваясь в окруженные враждебностью стайки или пытаясь соответствовать имиджу израильского ученика. А тысячи порвали со школой и ушли на улицу. Вот тогда-то Иегуда и двинулся к раву Фельдману с идеей создать в Канфей-Шомроне интернат для русскоязычных детей.
...Привез их из Тель-Авива Арье Бронштейн. Их было ровно тридцать семь. Двадцать парней и семнадцать девчонок. Приехавшие «транзиты» остановились все перед той же «хижиной». Транзиты щедро раздвинули вертикальные челюсти, и из полумрака посыпались будущие питомцы. Парни с серьгами в ушах, с прическами, одни из которых напоминали меховые шапки над бритыми висками, другие – петушиные золотые гребешки разных цветов, а то и гребни волн при шторме баллов эдак в восемь. И девушки. У девушек серьги были повсюду – от лбов, век, носов и губ до пупов и ниже, а на оголенных плечах были наколоты неземные чудовища и замысловатые узоры. Большинство девушек были в джинсах, а ежели на ком считалось, что есть юбка, так это только считалось. О, это были не просто мини – супермини! Они отважно обнажали и стройные бедрышки и могучие ляжки, напоминающие кадки для цветов.
Компания вывалилась на асфальтовую дорожку, огляделась и, достав сигареты, задымила в тридцать семь труб. После окрика Арье все послушно забычарили табачные изделия и двинулись к караванам, оглашая окрестности веселым матом. Иегуда в ужасе смотрел на эту шоблу, с тоской вспоминая интеллигентных мальчиков и девочек в руководимых им до отъезда в Израиль подмосковных еврейских лагерях.
Но делать было нечего. Иегуда вспомнил классическое «Мне не нравится ваш кашель. – Мне тоже, доктор, но другого у меня нет» – и поплелся к караванам. Там он, созвав народ на небольшой пятачок, открыл короткое собрание. Надо сказать, что ребята приняли его довольно дружелюбно. Правда, кипа и густая борода не способствовали сближению, зато родная русская речь, юморок, грубоватый, хотя и не переходящий границ, и, главное, фигура супермена, да еще поигрывание нунчакой вкупе с небрежно оброненным упоминанием черного пояса по карате, расположили к нему молодежь.