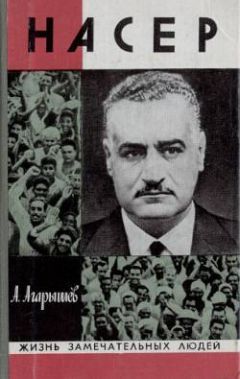Одиннадцатого тевета утром ко мне влетели растерянные Арье и Иегуда. Вид у обоих был тот еще. Перебивая друг друга, они поведали, что ночью кто-то обворовал наш местный магазин, принадлежащий Кальману, тоже уроженцу России, правда, живущему здесь больше тридцати лет и женатому на коренной израильтянке. Уже приехала полиция, и кое-кто из местных требует, чтобы обыск провели в интернате у «русских», потому как «а кто еще мог?», а это – расизм, и они за своих питомцев отвечают, они в них уверены, и они не позволят... Что вселяло в моих «русских» друзей такую уверенность, оставалось неясным, ибо по моим и стонущих местных жителей наблюдениям, милые крошки, бродя по поселению, подметали на своем пути все, что могло представлять какую-либо ценность.
В Канфей-Шомроне люди привыкли оставлять что угодно где угодно – все равно никто ничего не тронет. А тут жалобы на пропажу мяча, скейтборда или велосипеда сыпались, как из рога изобилия. Пока я выслушивал возгласы Арье и Иегуды о презумпции невиновности, об уважении к личности и о неприкосновенности имущества, открылась дверь, и вошел недавно начавший работать в интернате вожатым Моше Гамарник. Услышав призывы прошмонать вещи детишек, он без слов отправился в общежитие и, недолго думая, залез в рюкзаки, воспользовавшись тем, что их владельцы, расфасованные по караванам-классам, грызут гранит науки. В одном из рюкзаков он обнаружил несколько блоков сигарет «Мальборо», которые пропали у Кальмана в особенно больших количествах.«А что, – кричал хозяин рюкзака по имени Андрюша, житель Натании, друг Алекса и Михаэля, – я эти сигареты из дому привез!». «Три блока?» – насмешливо спрашивал Моше. «Это мое дело. А кто вам разрешил по рюкзакам рыскать?»
Кстати, в этом он был абсолютно прав. Но в полицию его все же увезли. С ним поехал и Иегуда.
На глазах у Иегуды Андрюша с потрохами заложил своих друзей. Об одном лишь просил Иегуду, по пути назад, в школу – не рассказывать об этом ребятам. «Да они и так все поймут, – недоумевал Иегуда. – Как выкручиваться-то будешь?» «Что-нибудь наплету, – успокаивал его мальчик. – Главное, вы меня не выдавайте!» Иегуда его не выдал, и он действительно наплел, да так, что, когда троих взломщиков вели по поселению в наручниках, Алекс, проходя мимо, Иегуды, прошипел:
– Значит, это вы за нами шпионили! Нам Андрюха все рассказал!
Троицу загребли, а Иегуда неосторожно поделился с оставшимися воспитанниками соображениями о человеческой подлости, проявившейся в конкретном случае. Дети молчали.
Выяснилось, что украдено выпивки, сигарет и сластей на несколько тысяч шекелей. И еще бананов шекелей на двести. Бананы ребятишки разбрасывали, сея разумное, доброе, вечное, когда ночью, накушавшись краденой водочки, отправились гулять по поселению. Полиция завела на них дело, но сажать никого не стала. Однако и в интернате оставлять их мы не решились. Отчислили всех троих.
Через два дня ко мне ввалился Кальман. Его лицо было красным, а украшающий лоб шрам от топора, память о выяснении отношений с арабами в Шхеме, где он регулярно производил закупки, был белым, как шелковая нить после прощения Вс-вышним грехов народа Израилева.
– Рав, я не понимаю, – взревел он с порога, не поздоровавшись, – как вы могли!
– Что случилось? – в ужасе спросил я.
– Рав еще спрашивает! – сокрушенно воскликнул он и повесил голову.
– Да объясни же, Кальман!
– А что тут объяснять? – он резким движением поднял голову, и белый шрам, словно кинжал, сверкнул в полумраке моего кабинета. – Из-за меня вы трех детей из школы выгнали! Да, конечно, они ведь трудные! А мы привыкли только с легкими справляться! А кто легкий?! Кто легкий, я спрашиваю! Вы?! Я?! Каждый человек трудный – на то он и человек! А вы из-за каких-то вонючих сигарет, из-за водки, будь она неладна, детишек на улицу выбрасываете! И во всем этом виноват – я!
Я без слов набрал телефон Иегуды и попросил сообщить мне домашний телефон Алекса и его старшего брата. После чего объявил Кальману, что он может позвонить братьям и предложить им вернуться в школу при условии, что лично будет отвечать за их поведение, о чем и обязан им поведать.
Кальман стал радостно названивать. О чем они говорили, не знаю – русский я еще не выучил. Но в школу никто не вернулся. И вообще, никакой революции, по крайней мере, на тот момент, в душах не произошло. С Андрюшенькой, например, разобрались обычными для наших воспитанников методами – его подстерегли ночью на улице в Натании и полоснули бритвой по губам. Зато на Ту бишват{Еврейский праздник – «Новый год деревьев».} Кальман получил посылку – несколько аккуратно упакованных бутылок коньяка. Коньяк был очень дорогой, французский и абсолютно некошерный. Благодарные чада забыли, что Кальман Липовецкий – религиозный еврей.
* * *
Шоссе шло по хребту. Внизу наперекрест вилось другое шоссе. Размеченное пунктиром горящих фонарей, оно сверху напоминало дорогу из желтого кирпича в «Волшебнике Изумрудного города». Въехав в арабскую деревню, Вика инстинктивно напряглась, даже голову чуть-чуть втянула в плечи, словно в случае чего это могло помочь. Но все было тихо. Мирные сыны Ишмаэля тихо почивали, обнимая своих жен – одну, двух, трех, у кого сколько. Улицы застыли, лишь лунные лучи играли на сеточных ограждениях вокруг домов. Вика быстро пересекла деревню в узком месте и, лишь поднявшись на очередной хребет, увидела, насколько та велика. Сверху она казалась гигантской светящейся амебой, внутри которой улицы перепутались горящими голубыми волокнами. Все это напоминало детскую головоломку «найди в лабиринте правильный путь». А она, Вика, нашла?
Из-за поворота выплыла гора белых – или кажущихся такими в лунном свете – камней. Они напомнили Вике груду черепов с картины Верещагина «Апофеоз войны». Затем промелькнула следующая деревушка, вся в кипарисах. А вот и поворот на Шавей-Шомрон. Откуда-то отсюда должна начаться дорога на Канфей-Шомрон. Ее Канфей-Шомрон. Вика резко надавила на тормоза и, одновременно чиркнувшинами по асфальту и «барабаном» – по кремню зажигалки, встала в «карман», расположенный прямо напротив поворота. Это любопытно. Значит, Канфей-Шомрон, в котором она никогда не была, это уже ее Канфей-Шомрон? Похоже, она действительно становится Эваном.
И тут Вике по-серьезному стало страшно. Она поняла, что не знает, жив Эван или нет. То есть чувствует, что он жив, но поскольку она сама его продолжение, это может означать лишь то, что он продолжает жить в ней. А где-то, быть может, в нескольких сотнях метрах отсюда, настоящий Эван лежит...
Вика вышвырнула недокуренную и до половины сигарету в открытое окно, закусила губу и со всей силы нажала на газ. Проехав не больше километра, она, почти не сбавляя скорости, крутанула руль влево и выехала на дорогу, которая должна была привести в любимый Канфей-Шомрон, к любимому Эвану!
Вскоре луну скрыла густая черная туча, и глазам пришлось привыкать к темноте. Дорога пошла вдоль ограды поселения, увенчанной колючей проволокой. Затем – снова вверх. Шеренга кипарисов сообщила Вике о приближении арабской деревни. И действительно, вскоре появились ее огоньки, голубыми бусинами рассыпанные по черному склону.
Итак, теперь она Эван. Она смотрит в ту же сторону, что и он – так пристально смотрит, что его самого не видит. Но это значит, что она теперь окончательно стала еврейкой.
* * *
Был Ту бишват, только не тот, когда Кальман получил коньяк в подарок, а следующий, 5759 года. Мы сажали деревья. С какой бы радостью я возился где-нибудь на краю поселения, опуская в ямки саженец за саженцем, наслаждаясь трудом, наслаждаясь неповторимым ощущением соучастия в сотворении маленькой зеленой жизни. Но, увы – раввин есть раввин. Надо поработать и с теми вместе, и с теми, и с теми. Конечно, прекрасно, что наше поселение так разрослось. Но если в каждом квартале ты должен посадить по деревцу, к концу одуреваешь. А еще ешива и «Зот Арцейну», школа для «русских»!
Как генерал объезжает свои войска, я обходил квартал за кварталом. Вот на этот склон я когда-то вышел, чтобы попрощаться с Горой, а она мне сказала: «Не уезжай!»
Вот вилла Менахема Штейна. Некогда он обитал в палатке, из которой вылезал на рассвете в двубортном костюме, черном шерстяном, в белую полоску, и на ходу стряхивал с обшлагов брюк колючки и сухие травинки. Потом с женой и детишками поселился в караване, затем в эшкубите. А теперь – вилла. Правда, немножко нелепая – никакой симметрии. Такое ощущение, будто ее не по плану какому строили, а все время достраивали что-то, пристраивали, приляпывали. И если приглядеться, увидишь, что так оно и есть. Вот этот флигелек – добавили. Второй этаж – надстроили. И если убрать все, что нанесено временем, окажется, что сердце этой шикарной, но сумасшедшей виллы – что? Все тот же эшкубит. С низкими потолками, с бетонными полами. Тот холодный эшкубит, который его обитатели своей любовью к Б-гу, друг к другу и к своей земле согревали, так что там всегда было тепло. И по сей день, даже если дуют ледяные самарийские ветры и утренние травы цепенеют в инее, а в других комнатах и камины не помогают, в этой самой старой части дома всегда тепло.