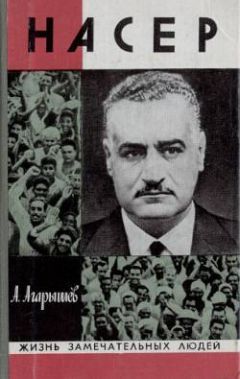Так начал свое существование летний лагерь для русскоязычных детей под руководством Иегуды Кагарлицкого. Впоследствии этот лагерь перерос в школу-интернат «Зот Арцейну». Она просуществовала вплоть до уничтожения поселения. Курировал проект лично рав Фельдман.
В первый же вечер проявилось его незнание загадочной славянской души. Произнеся перед детишками трогательную речь на тему того, что «мы в вас видим свое будущее, продолжение великого движения халуцианства, которому наша страна обязана своим существованием», он подробно объяснил, что «вот дорожка – справа от нее караваны мальчиков, слева – караваны девочек, и просьба эту дорожку не пересекать». Тем сильнее было его удивление, когда, после двухчасового совещания с Арье и Иегудой выйдя из Комнаты вожатых, он увидел прямо на него сигающую из окна «мужского» каравана Наташу Петрову, которая при этом на лету натягивала на себя детали туалета.
Рав Фельдман несколько опешил, но, побеседовав с Иегудой и Арье, пришел к выводу, что пока рано приходить к выводу. В конце концов, возможно, из этих мауглят еще что-то можно будет сварганить. Да и жалко их – заброшены в чужую страну, для своих израильских сверстников пожизненно останутся носителями клейма «русский», в большинстве своем бросили школу из-за языкового и психологического барьера, лишены какой-либо поддержки со стороны родителей, которые барахтаются в болоте абсорбции, так что им самим нужна поддержка. С еврейством эти дети никакой связи не чувствовали, да и зачастую имели к еврейству весьма косвенное отношение, а то и никакого...
Родные в свое время забыли их спросить, нужен ли им этот пьянящий омут, который они презрительно именовали «Израиловка» и бежать откуда им было просто некуда. Это ощущение изгоя в равной степени разделяли чистокровные евреи с чистокровными неевреями. При этом ребята были твердо убеждены в ненависти к ним всех окружающих и каждые три минуты бежали к Иегуде жаловаться, что кто-то из поселенцев косо на них посмотрел, а другой что-то не то буркнул себе под нос.
Бурю возмущения вызвал «этот, который прожектором дорожку освещает! Когда израильтяне идут, он его зажигает, а когда мы – тушит!» Иегуда пошел посмотреть, что за расист такой сидит в этой будочке. Оказалось – реле. Странным образом все эти комплексы не мешали стремлению как можно скорее пойти в ЦАХАЛ, причем парни рвались именно в боевые части. Еще сильнее Иегуду и Арье поражала резко очерченная позиция по вопросу об арабах и территориях, которую они, независимо от пола и происхождения, высказывали громко, патриотично и «не фильтруя базара». Покойный лидер ультраправых рав Кахане на их фоне выглядел мягкотелым арабофилом.
Арье и Иегуда были единственными, кому удавалось управлять этой ордой, которая то орала, то дралась, то, разбившись на парочки, пылко терроризировала пуританскую мораль жителей поселения.
Правда, Арье жил в Элон-Море, подопечных навещал, хотя и регулярно, но лишь в светлое время суток. Зато Иегуда оставался со своими питомцами день и ночь. Он же и был основным буфером между ними и односельчанами. А те все громче недоумевали, почему люди, стремящиеся жить и воспитывать детей вдали от пороков цивилизации, вынуждены терпеть... И так далее. Недоумевали. Но терпели.
Потом случилась кража. Нет, ничего ценного. Всего лишь виноград. Четверо залезли в виноградник Цви Кушнера. Только начали опустошать его хозяйство, и тут – надо же беде случиться – Цви. Трое уже увидели и застыли в ужасе, а четвертый аккуратно лозу редактирует, так, чтобы ни ягодки не осталось. И при этом что-то щебечет на языке Толстого и Достоевского, разноображивая его такими блестками, которые ни тому, ни другому не снились. И не странно ему, сладкоежке, с чего это вдруг друзья его смолкли.
Здоровяк Цви своим тяжелым шагом приблизился и лапу положил парню на плечо. Тот профилактически сказал привычное «Пошел на...», затем для проформы обернулся и тоже застыл. Так и оказался Цви единственным живым и движущимся среди четырех маленьких статуй. Пока под гребешками и бритыми височками вертелись мысли типа «Ну все, плакали денежки, которые мама заплатила за лагерь... Приеду – убьет!», «Ну все, сейчас сдадут в ментуру!», «Ну все, теперь меня в эту школу не примут!» и прочие разнообразные «ну все!», Цви упер руки в боки и грозно вопросил: «Что, виноградика захотелось?» Гробовое молчание прозвучало как знак полного согласия. «Ну что ж, – мрачно заключил он, – идите за мной». По тропке, выложенной плиткой, юные налетчики прошествовали за ним в салон. На окнах по случаю жары были жалюзи, и в салоне царила полутьма. Там, чуть поодаль от массивного дубового стола, словно специально для них приготовленные, ждали несчастных пленников четыре высоких стула, на которые они и водрузились. «Ближе к столу!» – рявкнул Цви. Дети повиновались. Он вышел в другую комнату, оставив их гадать, какие именно пыточные инструменты будут сейчас принесены, и спустя полминуты вернулся с книгой в руках. Плюхнулся на стул и провозгласил: «Урок галахи!» и, услышав в ужасе прошептанное «Чего-чего?!», пояснил: «Еврейского закона!»
После чего раскрыл книгу, покопался в страницах и, удовлетворенно найдя нужное место, начал громко и внятно читать:
«Написано в «Тана де-Вей Элиягу»: «Вот история про одного человека, который рассказал мне, что обманул нееврея, отмеривая ему, а потом на все деньги купил масла, и кувшин с маслом разбился, и все масло вытекло. И я сказал ему: «Благословен Вездесущий, ко всему относящийся нелицеприятно! Ведь сказано в стихе: «Не отнимай у своего ближнего и не грабь».
Он победоносно взглянул на слушателей, дабы узреть, какое впечатление на них произвел отрывок, и с разочарованием убедился, что никакого. Разве что некоторое недоразумение: мол, кувшин кувшином, но что может случиться с тем вкусным сладким виноградом, который теперь мирно покоится в их желудках?
«Ладно, – сказал Цви и вновь углубился в перелистывание страниц, приговаривая: «Это неважно... это пропустим... Ага! Вот оно!»
«Запрещено пользоваться чем бы то ни было, принадлежащим товарищу, без его ведома, даже если точно известно, что, узнав об этом, он обрадуется и возвеселится, поскольку любит тебя – тем не менее, это запрещено. Поэтому... Во! – прервал сам себя поселенец, подняв указательный палец, – если ты заходишь в сад своего товарища, тебе запрещено рвать там фрукты без ведома хозяина сада. Даже если хозяин – твой большой друг, любящий тебя, как самого себя, и, узнав о том, что ты ел его фрукты, обрадуется и возвеселится, все равно это запрещено, ибо сейчас он не знает, что ты ешь его фрукты».
Цви обвел взглядом лица, на которых страх понемногу уступил место дремоте, усмехнулся и завершил:
«Но если ты все время ешь там фрукты с разрешения хозяина сада, то можешь явиться туда без его ведома». Так что отныне...»
Не договорив, Цви захлопнул книгу, поднялся, с шумом отодвинув стул, вышел в кухню и вскоре вернулся, неся в могучих руках огромное блюдо с горой винограда. Торжественно брякнул блюдо на стол и продолжил мысль:
– ...отныне вы мои друзья и можете в любое время...
И, не закончив фразу, устало скомандовал:
– Умывальник слева. Быстро мыть руки – и повторяем за мной: «Благословен ты, Г-сподь, Царь Вселенной, сотворивший плод древа!»
* * *
Как в оркестре один музыкальный инструмент подхватывает мелодию, пропетую другим, так завернувшийся в свое куцее одеялко рав Фельдман вдруг, вслед за Иегудой, начал вспоминать их совместное детище – «Зот Арцейну», школу для подростков-репатриантов.
«Я чуть ли не каждый день встречался с русскоязычным молодняком, рассказывал про отца, про Шестидневную войну, про зарождение поселенческого движения. При этом все время пытался понять, что думают и чувствуют эти пришельцы с другой планеты, в массе своей уже и не сыновья, а внуки евреев и евреек. Исподволь заглядывал им в глаза.
Вспоминалась притча о цадике, который спросил кузнеца, может ли тот починить его повозку, и услышал в ответ: «А почему нет? Еще светло. Пока есть свет, все можно починить». «Вот так и человеческое сердце, – заметил цадик. – Починить можно, пока есть свет».
Порой взгляд пугал меня свинцовой пустотой. Это означало, что в сердце уже нет света. Но большинство душ реагировали.
Увы, непросто все было, очень непросто! Помню, я рассказал им о Десятом тевета, когда мы поминаем тех, у кого нет могил, о том, что это фактически день памяти жертв Холокоста. Слушали они вполне сочувственно. Но стоило мне сказать, что в память о шести миллионах погибших мы в этот день не едим и не пьем, мальчик с сугубо еврейской внешностью и, как потом сообщил мне Иегуда, сугубо еврейским происхождением, возмущенно воскликнул: «Тупость! У меня бабушку немцы расстреляли, так мне теперь уже пожрать нельзя?» Алексом звали этого парня. У него был еще старший брат – Михаэль. Бабушку он, если не выдумал, то, судя по возрасту, перепутал с прабабушкой. Как бы то ни было, я ответил ему: «Коли ты считаешь, что твоя расстрелянная бабушка не достойна того, чтобы в память о ней один день поголодать, сделай это ради моей расстрелянной бабушки». Алекс фыркнул, а в день поста вовсю, как он сам выразился, жрал. Жрал демонстративно и других угощал так, что за ушами пищало. Ладно, думаю, говоришь «тупость» – пусть будет тупость. Мне лишь было интересно, что с точки зрения этого юноши и его единомышленников является не тупостью, а «остростью», то есть правильным поведением. Увы, ответ я получил буквально через два дня.