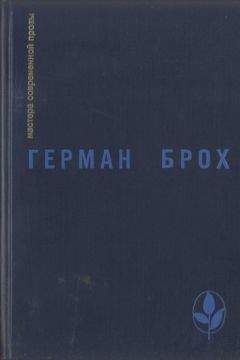— Как смело вы беретесь утверждать! Виновен не виновен, я решить не в силах. Все окончательно запуталось.
— Все станет на свои места, если ты прислушаешься к своему сокровенному «я» и его знанию.
— Опять ошибка! Как раз мое сокровенное знание возражает вам с полным на то основанием. Ведь никак не скажешь, что вина таится в той малой толике добра, которое ты сделал в своей жизни. Быть хорошим сыном даже Библия велит.
Старик снова засмеялся:
— На это ничего не могу возразить. Почитать отца и мать божья заповедь, а так как человек в своем несовершенстве должен радоваться, если хоть наполовину верен заповеди, то при некоторой ловкости всегда можно найти оправдание и тому, что ты пренебрег отцом. Лучше половина, чем совсем ничего. Верно я тебя понял?
— Да, пожалуй.
— Хорошо, оставим это.
А. не был готов к столь быстрому отступлению.
— Я, конечно, не отрицаю, здесь есть некоторая доля вины.
— И в чем же она?
— Я слишком буквально понимал земное благо, которое обещано человеку за исполнение божьей заповеди, и загребал вознаграждение полными горстями. Хоть кутилой я и не был, но изо дня в день в полной мере пользовался всеми благами земными. Я люблю хорошую еду и питье, удобства жизни много значат для меня или значили, как мне сейчас уже, видимо, следует выразиться. Склонность к комфорту и беззаботной жизни заставила меня искать укрытие под крылом матери.
— Никто не говорит, что человек должен голодать и мучиться жаждой! Не собираешься же ты каяться во всех своих добродетелях? К чему этот разговор об укрытии? Церлина хорошо готовит — вот и все.
— Беззаботной жизни чувство ответственности ни к чему. С давних пор я страшился принимать решения и отвечать, а раз уж мне так не терпелось взвалить на себя ответственность за мать, я отгородился от всякой иной, укрывшись под материнским крылом.
— Это уже ближе к делу. Только ведь всякий должен ограничивать круг своей ответственности; ответственность за слишком многое оказывается безответственностью.
— Но я с самого начала стремился укрыться и бежать от ответственности. Именно потому я не испытал в своей жизни настоящей любви; я никогда не любил. И как только у меня появилась возможность бежать, я не раздумывая бросил свою возлюбленную, а она…
Внезапно он замолчал. Внезапно он узнал предмет на столе: это серебристо-серая сумочка Мелитты. И тяжесть ее так угрожающе необъяснима.
— И что же? — спросил старик.
А. указал на сумочку.
— Я подарил ей сумочку, а она потом велела вернуть ее мне. Черные пятна — это ее кровь. Я бросил ее, и ей осталось только одно покончить с собой. Я убийца.
— Не преувеличивай. Люди всегда преувеличивают, когда начинают говорить о своих любовных историях, потому что эти истории, счастливые или несчастные, остаются для них приятным воспоминанием на всю жизнь. Такими поистине ничтожными пустяками нам не стоит и заниматься их слишком много на этом свете. Твоей Мелитте надо было просто поискать кого-нибудь другого.
— Я был первым, кого она повстречала, поэтому стал для нее судьбой. Лишив ее возможности иметь ребенка, которая была бы для нее равнозначна самой жизни, я отнял у нее жизнь.
— Это спесь твоя застилает тебе глаза, иначе бы ты сообразил, что Мелитта могла бы народить детей и от кого-нибудь другого. Но если уж кто выбрал для себя роль эдакого жирного ребеночка, как это, не в обиду тебе будь сказано, сделал ты, то поумерь свою спесь самца.
А. был оскорблен.
— Я грузноват немного, но я не ребенок — ребенок не опасается поступать безответственно, а я, уклоняясь от ответственности, как раз стараюсь избежать безответственности, вернее, вины, которая из нее проистекает; ребенок не страшится жить за чужой счет, а я все сделал своими руками, ни пфеннига не взял ни у кого, и уж тем более у отца, потому что не хочу быть должником.
— Похвально, — сказал старик, — ты потрудился, как подобает настоящему мужчине, следовательно, ты не ребенок.
— Опять неточное попадание, — ликовал А., — я хоть и сделал то, что подобает мужчине, но трудиться, как настоящий мужчина, я не грудился, и это усугубляет мою вину.
— Что ты имеешь в виду?
А. подумал немного, а потом пояснил:
— Мальчишкой еще — ни пфеннига в кармане — я отправился в тропики… и узнал, что такое тяжелый труд, особенно в южноафриканских рудниках; потом я понял, что всюду одно и то же, в колониях чуть хуже, в Европе и Америке чуть лучше, но в общем то же самое всюду тяжелый труд, подстегиваемый плетью голода и, стало быть, неизбежный, труд, который не обеспечивает даже мало-мальски сносного существования, не говоря уж о прочном положении в жизни, подобающем мужчине. Со мной могло случиться то же самое, что и с другими, если бы вскоре я не разгадал трюка легких денег, трюка осторожного обделывания дел. Помогла любовь к комфорту, конечно в сочетании с бдительностью и некоторой ловкостью. Словом, с тех пор моя деятельность, как ни странно, всегда оплачивалась выше, а ни в коем случае не ниже, чем она стоила. Я называл эту деятельность трудом, потому что мне нужно было оправдать в собственных глазах стекавшуюся ко мне прибыль; повсюду чудились мне обман и отвлекающие маневры, и я вообразил, что должен обороняться, а на самом деле я сам совершал отвлекающие маневры, лицемерно уверяя себя при этом, что, дескать, тружусь, чтобы и впредь можно было довольствоваться той же видимостью труда. И это я называю виной.
— Стоп, — прервал старик, разве, если не трудишься, так уж непременно и виновен? И разве труд — это обязательно нечто изнурительное, к чему испытываешь отвращение и за что мало платят? Я все-таки думаю, что это не так. А ради чего ты делал то, что даже не называешь трудом?
— Ради прочного положения в жизни, — несколько удивленно сказал А., — и не в последнюю очередь ради того, чтобы обеспечить надежное положение матери в нынешние ненадежные времена.
— Разве это не достаточное оправдание? И разве любой из голодающих каторжников труда не поступал бы точно так же, если бы обладал твоей хитростью и отгадал, подобно тебе, трюк денег? Конечно, жизнь трутня не так уж невинна, но и вина не так тяжела, как ты изображаешь.
А. рассердился из-за слов «жизнь трутня» даже больше, чем из-за того, что старик умалил значение его признания.
— Мне было не так уж легко, как вы это себе представляете. Дела требовали черт-те какого напряжения, и я часто думал, что настоящий физический труд был бы легче. В чем тут дело, в моей ли конституции, в какой-то болезни и потребности беречь себя, я не берусь определить, да это, в конце концов, и неважно. Во всяком случае, даже самое коротенькое деловое письмо стоит мне безмерных усилий. Если бы не это, мое экономическое положение было бы еще прочнее, чем сейчас, ведь тогда бы я развернулся по-настоящему и не приобрел привычку брать лишь то, что само плывет в руки. Все это может произвести впечатление вялости, но оно поверхностно; если присмотреться внимательнее, окажется, что меня можно назвать кем угодно, но только не вялым трутнем.
— Значит, тем более вина не так велика.
Постоянные возражения старика начинали по-настоящему сердить А.
— Нет, и еще раз нет! Разве вы не понимаете, что деятельность подобного рода, какого бы напряжения она мне ни стоила, ведет только к видимости труда? Это ложь, в том-то и дело. Поскольку эта видимость труда приносила так называемые успехи, я вообразил, что намного возвышаюсь над остальной муравьиной кучей. Я был победителем — что делали побежденные, меня больше не касалось. Охаживала ли плеть голода этих невольников заработка, подыхали ли они в нищете или проливали кровь, я не оглядывался — мой путь был предначертан: очень далеко от тех, кто трудится в поту и умирает в поту, сама благодать избрала меня и назначила мне особое положение. Война свирепствовала в Европе, а я делал деньги; русская революция превратила бывший класс победителей своей страны в класс побежденных, вернее, в горы трупов, а я делал деньги; политическое чудовище Гитлер на моих глазах шаг за шагом шел к власти, а я делал деньги. Так я достигал того, что подобает мужчине, — то была обманчивая прочность и подлинная вина. В самом деле, если бы даже в том, что не трудишься, и не было вины, то уж в лицемерии-то она есть. Вы должны это понять.
— Ну а в России тебе пришлось бы расплатиться смертью за все свои гражданские прегрешения и преступную позицию, к этому добавим уж заодно и совращение бедной девушки Мелитты. В этом ты хочешь покаяться?
— Нет, — сказал А., к собственному удивлению.
— Короче говоря, все от начала до конца ложь и вздор, хотя звучит вполне разумно. Так?
Снова А. почувствовал себя разоблаченным, совершенно нагим, и все же ощущение было такое, словно волны времени, которые таинственной пустотой своей закрыли настоящее, становились прозрачнее.