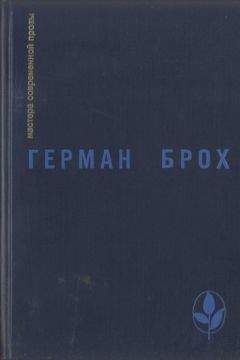— Нет причин для такого горького стыда, — успокоил старец, будто заметив слепыми глазами, как сильно А. покраснел, — я и сам виноват: чем глупее прикидываешься, тем скорее другой расплачивается за свою болтливость. Ну а теперь вернемся к нашей главной теме… Не таится ли как раз в этом странном бегстве к матери главная доля вины и одновременно ее признание?
— Да, — сказал А.
Старик кивнул.
— Я тоже так думаю.
Тогда А. попросил:
— Можно я попробую рассказать?
— Говори, для этого мы и встретились.
Наступила пауза. Ветер, как и прежде, с шумом врывался в комнату, иногда ослабевая, иногда усиливаясь, разлетевшиеся бумаги с тихим шорохом скользили по полу и опускались, словно ища покоя, в углах комнаты и у книжных полок — там их скопилось уже много; письменный стол был теперь совершенно пуст.
А. начал говорить:
— Заблуждения, в которых я себя обвинил, начиная с отношения к Мелитте и кончая моей социальной и политической позицией, — это не измышления и даже не покаяние. Ложь и вздор в том объяснении, которое я вам дал и которое, собственно, никаким объяснением не является; ложь в слишком поспешной готовности раскаяться, которая, подобно революционному трибуналу, усердно наказывает просто человеческие поступки, юридически неуязвимые, обусловленные ситуацией, и ради этого не раздумывая использует всякое сколько-нибудь подходящее доказательство, в том числе и принадлежность к определенному классу. Поэтому лицемерие, в котором я себя обвинил, истинная правда, и доказательства, вообще не являющиеся таковыми, и ложные доказательства несут печать лицемерия и потому опасны.
Но что может считаться достаточным доказательством вины и чувства вины? Даже у неверующего возникает мысль о присущем человеку зле как таковом, вовсе не зависящем от классовой принадлежности, мысль о христианском первородном грехе. Это прекрасная формулировка, и я далек от того, чтобы ее менять. Но я все же хочу спросить о конкретной форме, в которой является зло в наше время, и когда я в поисках ответа задаюсь вопросом об общем знаменателе собственных грехов, то вижу свою глубочайшую и вопиющую о возмездии вику в абсолютном равнодушии. Это пещерное равнодушие, равнодушие к собственному человеческому началу; а равнодушие к страданию ближнего — только следствие.
Осознав беспредельность своей натуры, человек в собственном ощущении стал чем-то размытым и перестал видеть ближнего.
Я говорю, но не знаю, сам ли говорю; мне почти кажется, что во мне говорят другие: люди этого города, люди этой страны, многие другие люди, хотя я знаю, что и тут нет разницы между ними и мною и что никто не знает, от чьего имени говорит и сам ли говорит те слова, которые слышит. Человек разрушил границы своей личности, вступил в новое обиталище своего «я», блуждает в нем, потерянный в необозримости. Мы составляем цельность «мы», но не потому, что мы — это единая общность, а потому, что наши границы пересекаются.
Где же, где же мы блуждаем?
Беспредельны возможности нашей мысли, беспредельнее, чем возможности природы, но там, где обе безмерности совпадают, они могут, причудливо друг друга обусловливая, причудливо переплетаясь друг с другом, соединиться в новую действительность, тоже беспредельную, свободную, однако, от необозримости человеческого «я», но, как и оно, таящую в себе Ничто. У человека отнята возможность видеть мир, как в волшебном фонаре, видеть из своего знакомого, родного — чужое, из ограниченного — безграничное; вместо этого ему дано нечто, что едва ли можно назвать возможностью видеть, и оно подобно возвращению в магические времена, к магии неразделенности внешнего и внутреннего, правда уже заметно лишенной тайны по сравнению с магией минувшего, однако не менее пугающей.
О путь к новому приюту человеческому.
Вы, отец и дед, отсылали меня к сокровенному «я». Конечно, у меня есть свое «я». С детских лет оно со мной, и ему я обязан сцеплением звеньев моей жизни. Я и есть мое «я». И благодаря тому, что я обладаю своим «я», я отличаюсь от животного, я подобен богу и тем приближен к нему, потому что в глубине «я» бесконечность и Ничто сливаются: ни то ни другое не доступно животному и, напротив, в боге, только в боге то и другое сливаются воедино. Разве не в этом неизменное и неизменяющееся существо моего человеческого бытия? И все же я не могу, мы не можем им больше овладеть. Какова же сила того разрушения границ, если оно меняет неизменное?
И был ответ старика:
— Каждые два тысячелетия свершается круг земного. И сила свершения потрясает не только космос, она так же, а может быть, и больше, потрясает человеческое «я»… и разве может быть иначе! Время конца есть время рождения, и в неизменном творятся перемены, катастрофа роста. Благословенно и проклято поколение переходного времени; ему предначертано разрешить проблему. — Старик умолк. Затем сказал: — Продолжай.
А., не сводя глаз с сумочки, оставшейся в наследство от умершей, продолжал исповедоваться:
— Как нам разрешить эту проблему? Изменившийся мир и изменившееся «я», оба воспарившие к беспредельности, — как же нам восстановить заново их связи и самим удержаться при этом? Почти неразрешимая задача, и нам грозит опасность конца без нового начала. Она действительно грозит нам, именно нашему поколению. Опасность в том, что человек лишится своей близости к богу и низко падет, приблизившись к животному, нет, еще ниже, впадет в доживотное состояние — ведь животное никогда не теряло своего «я». Разве наше равнодушие не означает уже начинающегося соскальзывания к животному состоянию? Животное способно страдать, но неспособно ни помогать, ни стремиться помогать — его гнетет бремя равнодушия, оно не может улыбаться. Мир больше не улыбается нам, наше «я» больше не улыбается нам. Наш страх растет.
Пристанище разрушено и больше не пристанище. И все же тяжело его оставить и отважиться шагнуть в беспредельность.
Наша задача слишком огромна, поэтому мы вооружаемся слепотой и равнодушием. Сила разрушения, сосредоточенная в нашем «я», чрезмерно велика для нас. Неуемное в своей последовательности и ужасающей логике «я» создало мир, многообразие которого оказалось недоступным нашему пониманию и столь же неуемным в своих раскрепощенных силах. Последствия произведенного нами самими разрушения научили нас, сколь неизбежно происходящее, и мы поняли, что нужно, пожимая плечами, позволять ему твориться; и, даже перед убийством, которое свершается повсеместно в дебрях непостижимого, мы закрываем глаза и даем ему совершаться. Содеянное нами парализует наше деяние, вынуждает нас к покорности, превращает в запуганных фаталистов настолько, что мы устремляемся назад к матери, домой, к единственно реальной и недвусмысленной связи в мире необъяснимой многозначности, словно материнский приют — это остров трехмерного существования в океане бесконечности и по ту сторону от всяких задач.
Парализованные безмерностью задачи, мы не хотим больше брать на себя также и бремя отцовства; утратившие способность быть законодателями, мы не хотим больше и над собой терпеть законодателя, отца, и, став сыновьями матерей, не знающими над собой закона, мы призываем зверя, чтобы он руководил нами.
Парализованные, спасаясь от паралича, мы впадаем в еще более глубокий паралич, спасаясь от одиночества в еще более глухое одиночество; мы парализованы одиночеством. Потому что наши старые иллюзии о человеческом сообществе, наши сны наяву о жизни друг для друга утрачены на сей раз безвозвратно; и хотя революции в собственном своем представлении слыли всегда решительным пробуждением, дело, однако, всегда шло все о той же спячке, только, если удавалось, более упорядоченной и ровной; и даже если они возникали из разочарования, которое им было уготовано химерическим представлением о жизни людей друг для друга, они не могли вообразить себе иного сообщества людей, и, раз уж не может быть победы над одиночеством и нет смысла жить без снов и иллюзий, они продолжали их ткать, заменив в своем воображении современного человека поколениями будущих людей, детьми и внуками, ради которых дозволено убивать, а от них зато ожидают, как бы проецируя в будущее свой консерватизм, что они поддержат идею революционного сообщества людей и ее осуществят… но разве сегодня можно еще этого ожидать? Разве не прикована мечта о человеческой общности все к тому же трехмерному, от которого она берет свое начало, и ее перенесение в безмерное стало попросту невозможным? И разве тем самым не сводится любая революция к трагически бессмысленной бойне? Может быть, завтра родится новая мечта о человеческой общности, соответствующая безмерности мира, может быть, для этого потребуется отважная готовность к одиночеству и к одинокой смерти — готовность, которой человек еще не обрел… Но кто бы решился предсказывать это, строить планы, выдвигать как цель борьбы? Мы больше не шевельнем и пальцем. С одной стороны, мы презираем любого политика, потому что он по-детски пытается навязать свои трехмерные представления беспредельному многообразию мира, с другой же стороны, мы готовы думать, что, несмотря ни на что, он, возможно, — мистическое орудие обновляющейся реальности. И вот мы допустили Гитлера, он сумел извлечь выгоду из нашего паралича.