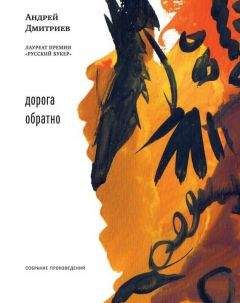Легко наверстав упущенное, Серафим преуспевал во всех науках и дисциплинах, уже ни одной из них не отдавая предпочтения. С калейдоскопической быстротой перебегал он со спецкурса на спецкурс, из спецсеминара в спецсеминар, успевая освоить каждый из них в надлежащем объеме, всегда имея к концу года по нескольку готовых курсовых работ на выбор и всякий раз останавливаясь в своих занятиях у той черты, за которой начинается область независимых и непредсказуемых изысканий, область открытий… Уже близилась дипломная горячка, а он и не думал горячиться, не гадал о теме диплома и вообще не помышлял о своей специализации. Кафедрам пришлось решать меж собой, кому выводить его в люди. Диплом по предложенной ему теме, я уж и не знаю какой, Серафим защитил с отличием и вместе с корочкой и поплавком на лацкан получил характеристику, парадоксальную и, думаю, единственную в своем роде: «<…> Проявил блестящие способности. Приобрел обширные познания. Непригоден к научной работе».
Для чего составителям судьбоносной бумаги понадобилось в ней щеголять парадоксом, закрывающим перед Серафимом двери аспирантуры, остается только гадать. Навряд ли у него были враги на кафедрах. Напротив, педагоги прочили ему великое будущее. Вероятнее всего, они не простили ему слишком очевидного, граничащего с неблагодарностью, пренебрежения их доброжелательными усилиями, и в этом их можно понять. Распределение домой, младшим преподавателем нашего Политехнического института, Серафим воспринял как должное, вернее никак. И всех, кто провожал его удушливым июньским днем на вокзале, кто желал ему удачи на предписанном поприще, а его жене Наталье — скорейшего пополнения в семействе, занимал вопрос: обзаведясь всеми признаками здорового человека, здоров ли Серафим на самом деле?
Спроси они об этом Наталью, она бы ответила им: «Здоров». Серафим здоров, но ему бывает страшно. Гуляя по Васильевскому острову или по Охте поздними вечерами, он смотрит под ноги не потому, что боится упасть в яму, а потому, что боится посмотреть на небо и увидеть там бездну. Множа на бумаге ряды математических и физических формул, он вдруг комкает лист и швыряет его в окно не потому, что его работа зашла в тупик, — потому что он предчувствует озарение и страшится его. Сам он называет это, в чем он сразу признался Наталье, страхом утюга. Это, конечно, смешно, сказал он ей, но всякий раз, едва ухватив мысль, едва увлекшись ею и распалясь, я боюсь, что рука моя вновь потянется к утюгу, и немедленно глупею от страха. Это проходит только в походах… Наталья приняла его признание близко к сердцу и с тех пор сопровождала его во всех походах, летних и зимних, по тайге, по горам, по речным порогам, опасаясь, что убийственный страх однажды разыщет его и на походной тропе, догонит, и он не сумеет справиться с ним в одиночку. В свой последний байдарочный поход она отправилась, как известно, беременной на седьмом месяце. Серафим шумно протестовал — она молча укладывала в рюкзак свои вещи. Серафим пригрозил ей и вовсе отменить поход — она сказала:
— Глупо. Останешься дома — тебе будет плохо, и мне будет плохо… Ты не волнуйся: свежий воздух мне необходим и нагрузки полезны.
По заключению врача Ларионова, повинной в неостановимом послеродовом кровотечении была запущенная и до времени скрытая патология. Городская молва винила в смерти Натальи Серафима, потом и врача Ларионова — винила вяло и недолго: Наталья была чужой, считай приезжей, и ее в нашем городе не успели узнать как следует. Кого винил Серафим и винил ли кого, неизвестно: он несколько дней молчал, обронив лишь одну, не всеми понятую фразу:
— Я все время не того боялся. Глупого утюга боялся.
Он был ровен, внешне спокоен и разволновался, причем до слез и крика, только раз, в городском загсе, куда он пришел с новорожденным давать ему имя.
Наталья придумала мальчику, на случай, если родится мальчик, необычное имя Ион. Казалось, не окончательно: имена из учебника физики еще только начинали входить в моду, и нелегко было решиться этой моде последовать. Вышло: завещала, и Серафим, показывая работнику загса конверт с новорожденным и документ из роддома, сказал по-завещанному: «Ион». В ответ он услышал:
— Нету такого имени.
— Откуда вам знать? — зло сказал Серафим и был не прав, потому что работник загса Полуянова тут же сузила глаза, перестала ими мигать и уперлась:
— Мне ли не знать. Вот вам пособие, вот и словарик имен… Полистайте пока, убедитесь, а потом приходите — может, что и надумаете.
— Имя Электрон есть? — спросил Серафим, еле сдерживаясь и не собираясь прикасаться к замусоленному словарику.
— Электрон есть, — подумав, ответила Полуянова.
— Трактор, само собой, есть?
— И Трактор есть, и много чего есть…
— А Иона нет?
— Нет!
Тут с Серафимом и случился припадок с криком и слезами; младенец тоже закричал, вынудив Полуянову смягчиться и если и не пойти на попятную, то хотя бы проявить доброе человеческое участие.
— Скажу вам по секрету, — сказала она Серафиму, отпоив его водой из графина и дождавшись, когда младенец умолкнет. — Есть и похожие на ваше слово имена, но только, предупреждаю, церковные. Иона, например… Можете записать Иона, если вас это не пугает. Дело в том, молодой человек, что этот церковный Иона был однажды проглочен китом. Такого, конечно, не бывает; киты питаются мальками; но кто его знает, вдруг это имя принесет нашему мальчику какую-нибудь похожую неприятность… Есть еще похожее имя, Иов, но я по-честному вам скажу: выговорить — трудно, и потом: с этим их Иовом случилось столько несчастных случаев, что я бы на вашем месте рисковать не стала…
— Ладно вам, пишите: Иона, — сдался Серафим.
Иону забрали к себе Роза Расуловна и В. В. Серафим поселился отдельно, сначала в общежитии, потом снял комнату в двухэтажном срубе без удобств на задворках областной больницы. В походы он больше не ходил. Иногда гулял подолгу за городской чертой, редко — один, почти всегда — в сопровождении самых преданных своих студентов… Заурядные студенты на его занятиях совели, ибо был он сух и скуп на веселые паузы, одаренные студенты его боготворили, старались не отпускать ни на шаг, почти каждый вечер просиживали допоздна в его комнатке на больничных задворках, стойко пахнущих йодом и хлором, зато зеленых и тишайших. Попасть к нему на семинар считалось у знатоков большой удачей. Попасть, по правде, было легко, труднее — выбрать или всюду поспеть: он преподавал из физики, из высшей математики, — казалось, он готов был преподавать все, достаточно было ректорату попросить его об этом. Все, кроме астрономии. Считалось, он ее не знал… Был он и школьным репетитором, к слову сказать, недорогим, всего за полтора рубля в час. На матмехе и на мехмате, в Бауманском, Физтехе и, тем более, в нашем Политехническом рекомендованные им абитуриенты безоговорочно считались фаворитами. Почти все, кого он готовил к поступлению в эти вузы, кроме тех, пожалуй, кто становился жертвой государственных цензовых интриг, поступали туда без труда… Его ученики давно царят в лабораториях и блещут на кафедрах всего мира, некоторые из них, по слухам, подбираются к нобелевке… Но, увы, живой легендой, как В. В., Серафим не стал. Никто у нас не врет, будто бы учился у него, а те, кто учился у него, гордятся этим тихо в своей среде. Это кажется несправедливым. Ученики В. В., к примеру, отчасти пополнили собою флот, но никто из них, похоже, не преуспел в науках… Но если здраво рассудить, легендарный В. В. пришел к нам, как-никак, из девятнадцатого века, а его сын Серафим — оттуда, откуда все. Для всех он был уважаемым педагогом, одним из многих уважаемых педагогов… Я пишу «был», подразумевая, что был он таковым не всю жизнь. В семьдесят четвертом году его скромный, но достойный ореол потемнел и скукожился, обернулся дурацким колпаком.
Незадолго до того Серафим успел стать старшим преподавателем и, ради прибавки к зарплате, кандидатом наук, правда, педагогических, сведя свои обычные учебные планы в подобие научного труда под названием «Некоторые особенности методики преподавания математических дисциплин в высших и средних специальных учебных заведениях». В. В. был еще жив. После смерти Розы Расуловны в мае семидесятого он оказался без надзора, выпивал все чаще, но облик не терял никогда… Полистав туда-сюда трясущимися пальцами автореферат с дарственной надписью «Отцу — сын», он коротко всплакнул, как поперхнулся, вытер веки и сказал:
— Жаль, Редиса нету с нами; он бы сумел это прочесть. Он бы тебя хвалил, а я бы тобой хвастал.
В августе семьдесят четвертого года В. В. не стало. Его хоронил весь город. В разгар поминок, когда все слова были сказаны, поминальное застолье распалось, перестало поминать, но не устало выпивать и, как водится, принялось курить и болтать по углам, к Серафиму подошел главный редактор областной партийной газеты Голошеин и проговорил, погладив по плечу: